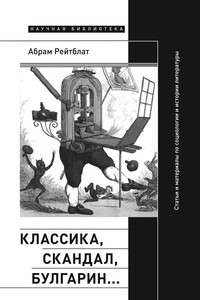«На пиру Мнемозины» | страница 87
Эти наблюдения нуждаются в уточнениях. Строки из «Разговора с небожителем»
(II; 210)
свидетельствуют о значительном различии в понимании веры поэтом и религиозными философами. Если и для Кьеркегора, и для Льва Шестова акт веры заключал в себе ответ Бога (вознаграждение праведного Иова, чью историю оба философа рассматривали как символическую экзистенциальную ситуацию), то для Бродского ответ невозможен, исключен. Вера описывается отстраненно, а не участно, с позиций рассудка («доказует»). Она не оказывается подлинным выходом из одиночества и отчужденности. Ключевые для стихотворения Бродского категории «страдание» и «боль», безусловно, соотносятся со «страхом» и «страданием», например, у Кьеркегора (в трактате-эссе «Страх и трепет» и т. д.). Однако переживание страдания, которое осознано поэтом как объективный закон бытия («…боль — не нарушенье правил: / страданье есть / способность тел, / и человек есть испытатель боли» [II; 210])[251], не представлено в стихотворении условием сверхрациональной веры. Мотив благодарности за переживаемые беды и невзгоды, встречающийся и в «Разговоре с небожителем», и, например, в значительно более позднем «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» (1980), имеет истоки прежде всего в христианской религии, но не в экзистенциальной философии. У Льва Шестова ключевым словом, определяющим отношение «Я» к бытию, является не смирение, но коренящееся в покорности и перерастающее ее дерзновение:
«Дерзновение не случайный грех человека, а его великая правда И люди, возвещавшие смирение, были по своим внутренним запросам наиболее дерзновенными людьми. Смирение было для них только способом, приемом борьбы за свое право. <…> Последний страшный суд не „здесь“. Здесь одолели „идеи“, „сознание вообще“ и те люди, которые прославляли „общее“ и провозглашали его богом. Но „там“ — там дерзавшие и разбитые будут услышаны».
(«На весах Иова»)[252]
«Благодарность» за страдания у Бродского, однако, не имеет адресата (лирический герой Бродского не обращает ее непосредственно к Богу), что придает ей оттенок внутренней иронии, заставляя видеть в благодарении за выпавшие бедствия не только выражение непосредственного чувства «Я», но и формализованное этикетное высказывание, литературное «общее место».