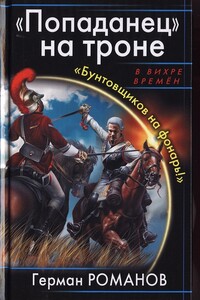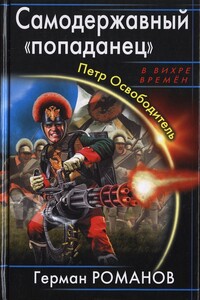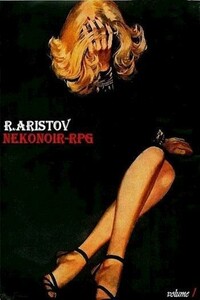Попаданец на гражданской | страница 27
Устоять под острым лезвием бебута салу и огурцу не удалось, хоть и имели они заледенелую каменность. И Костя приступил к трапезе, благо был старый солдатский прием — маленькие кусочки еды греют во рту и, как только они растают, медленно жуют. Сочетание сала, хлеба и огурца было восхитительным, и вскоре Ермаков приглушил чувство голода.
— Неплохо Константин Иванович на рабочем-то месте откушивает, — он поддел ногой пустую бутыль, отчего та укатилась назад под лавку. — Только закусь слабовата! Исходя из чего можно сделать вывод, что господин ротмистр презрел культуру пития и вульгарно нажирается. Понятно, что и повода особенно допытываться не стоит: вон он, повод, бутылку затыкал! А я все думал, почему он медлил и не выдвигался на Иркутск?
Ответа на этот вопрос искать не нужно было. Ему и так все было понятно. Водкой на Руси обычно заливали либо радость, либо беду. А тут беда было во сто крат помножена еще и на острое чувство собственной беспомощности и полного крушения надежд.
Белое движение по всем фронтам потерпело крах. В Сибири же произошла самая настоящая катастрофа. Противостоять надвигающимся большевикам у солдат адмирала Колчака уже не было сил, а главное, желания.
Они остро нуждались в передышке, и потому, не задерживаясь, многотысячная масса устремилась к Иркутску, надеясь на берегах Ангары и Байкала отсидеться под защитой войск атамана Семенова, за которым грозной стальной щетиной маячили японские штыки. Напрасны были их надежды…
— Чего же Арчегов пьет-то? Ведь есть еще шанс, и немалый! — Ермаков возбужденно ходил по небольшому свободному пятачку между шкафом и окном. — Я же столько раз просчитывал, прикидывал варианты! Неужели он просто испугался? Нет! Не может быть!
Он вдруг остро ощутил прилив какой-то неведомой смеси разочарования, боли, отчаяния, страха, всего того, что, подобно лавине, захлестнуло его душу. Словно невысказанные чувства Арчегова, заливаемые водкой и задвинутые им в самые потаенные уголки разума, вырвались наружу.
Ермаков вдруг вспомнил самого себя в госпитале, когда врач кричал ему в лицо, вырывая его из цепких лап смерти, кричал «Борись!», «Живи!», но ему было уже все равно. Душа, опустошенная войной, отказывалась и жить, и бороться. Разом умерли все чувства и эмоции. Только лучиком надежды теплилась мысль о жене и сыне, о возвращении домой, возвращении с войны.
Именно это и спасло его тогда, воскресило и дало силы для борьбы не столько с ранами, сколько с самим собой.