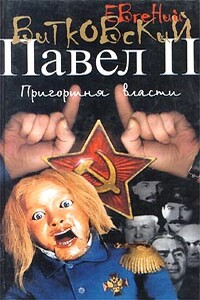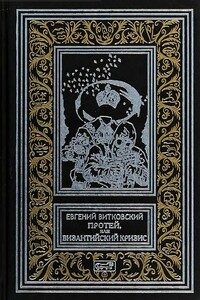На память о русском Китае | страница 10
Забегая вперед, надо сказать, что до самого марта 1917 года, до дней Февральского переворота, Митропольский опубликовал свыше ста стихотворений (из них лишь до начала Первой мировой войны — как минимум шестьдесят), — в двухтомном его издании (Владивосток, 2006) представлены только шесть. Если бы он собрал их в книгу… Ругали бы, наверное, но не было бы легенды о том, что поэт Несмелов взял да и возник из ничего весной 1920 году на берегу Тихого Океана. Многие поэты остались в литературе наследием и качественно, и количественно куда меньшим. А для будущего Арсения Несмелова это были только подступы к истинному искусству. Притом «футуристического» (за что пенял Несмелову Г. Струве) в этой сотне стихотворений в творчестве Митропольского до тех пор, пока поэт не оказался на Дальнем Востоке, не было ничего: это был крепкий, чисто московский поэт второго ряда.
Однако после «мятежа юнкеров» московский след поэта теряется. Как пишет сам поэт, «…уехав в 1918 году в Омск, назад не вернулся». Видимо, попал он все же не сразу в Омск: в Перми, в газете «Пермская земская неделя», в рожденственском № 40 (52) от 25 декабря, мы находим его восьмистишие «Падает с веток блестящий…». Правда, двумя годами ранее оно печаталось в московской «Нашей родине», и это всего лишь восемь строк, вероятно, записанных по памяти — но важен след, оставленный по дороге Восток: Пермь. Позже будет Курган, затем Омск, — и там, в газетах времен правительства адмирала Колчака, осенью 1919 года начнут появляться его новые, уже совершенно зрелые стихи. Но что характерно: ни одна строка из разысканного по периодике до 1920 года, не войдет впоследствии ни в один его авторский сборник. Едва ли потому, что он не помнил ни строки «старого». Вероятно, на берегу бухты Золотой Рог, как он сам пишет в мемуарах, он почувствовал себя другим человеком. И именно тогда под ставшим ныне знаменитым стихотворением «Интервенты» («Каждый хочет любить») он поставит новое имя —