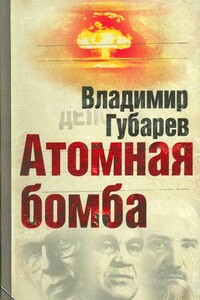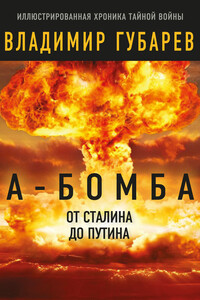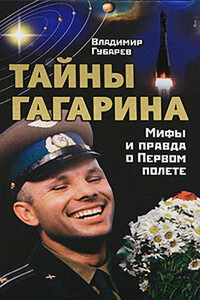Моя «Правда». Большие тайны большой газеты | страница 48
К сожалению, «Правда» не изменила своего отношения к Александру Исаевичу Солженицыну и тогда, когда он был избран в Российскую Академию наук. Я написал об этом событии статью, но она так и не появилась на страницах «Правды».
Именно поэтому я предлагаю эту статью сейчас на суд читателей.
Это размышления писателя о влиянии Академии наук России на судьбу литературы.
Итак, хотел ли Пушкин быть академиком? Александр Сергеевич никогда об этом не говорил, хотя к Академии, как ко всему, что связано с Петром I, он относился с почтением. Да и было почему: ведь все лучшее, что случалось в России, связано с ее Академией. И тогда, да и сейчас.
Не успел Пушкин стать членом Академии, но его имя осветило единственный в мире литературоведческий научный центр, где хранятся и изучаются документы и рукописи великих писателей и деятелей искусства. Я имею в виду Пушкинский дом, без которого ни наука, ни литература России в XX веке просто немыслимы. А появился он в 1905 году.
Впрочем «тяга» литераторов к Академии началась с ее рождения…
Всего два года прошло после Указа Петра I о создании Российской Академии, а слава о ней уже шагнула в Европу, привлекая к себе все новых именитых членов. И когда Христиан Вольф писал Леонарду Эйлеру о том, что в Петербурге Академия наук стала «раем для ученых», он не подозревал, что его оценка останется в истории. Да и еще одним деянием прославится почетный член Академии Вольф: он возьмет на себя труд обучать трех студентов Академии естествознанию, и среди них будет Михаил Ломоносов.
История гениев в России – это история Академии.
Можно сказать и иначе: история Академии – это история гениев, которые передавали друг другу эстафету знаний.
Не принято говорить, но судьба нашей литературы впрямую связана с Академией наук. И называют ее в мире «великой» во многом благодаря тому, что под сенью Академии скрывались от жизненных невзгод те, чьи имена становились бессмертными.
Последним среди них стал Александр Солженицын.
Первым – Михаил Ломоносов.
Между ними без малого три столетия. Эту временную цепь можно представить в виде зеркала, где отражалась судьба народа. И мы можем оценивать ее, вглядываясь в лица гениев и впитывая их мысли.
Эпиграфом к жизни науки в России можно ставить слова Ломоносова, сказанные им о себе, а, следовательно, обо всех ученых прошлого и настоящего:
Напасти презирать, без страху ждать кончины,
Иметь недвижим дух и бегать от любви.
Я больше как рабов имел себя во власти,