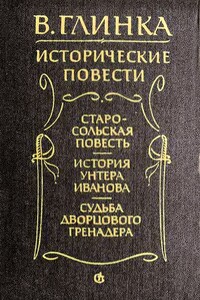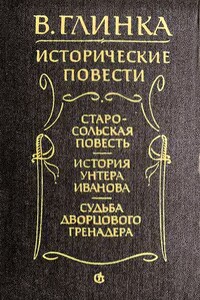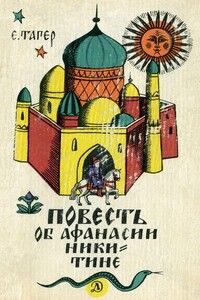Жизнь Лаврентия Серякова | страница 15
— Я и скажу, как по-моему выходит, — посмеиваясь, повествовал Антонов, — а он — ну меня хвалить, что я всегда разгляжу, что ему надобно. А мудрено ли? Уж так ясно все, что только глупому невдомек.
Доводилось ему переписывать для Грибоедова и Шаховского их комедии и кое-что для Жуковского. О последнем Антонов отзывался так:
— Добрейший господин. Вот уж истинно ничьего горя без внимания не оставит! При мне, веришь ли, нищей старухе у себя на лестнице без малого сто рублей дал. Выслушал так терпеливо, что она про сына своего больного сквозь слезы рассказывала, стал по всем карманам шарить и ей все в руки сует. «Иди, говорит, сударыня, и, если опять нужда будет, снова приходи…» Я ее спрашивал, вместе с лестницы шли: «Знали вы раньше Василия Андреича?» А она: «Никогда, — говорит, — я их не видывала, посоветовали люди сходить, но теперь вовек не забуду…»
— А Пушкину вы не переписывали? — спросил Серяков.
— Нет, не случалось. Но видел их однажды близко, как тебя сейчас, у Василия же Андреича. Давно, в 1820 году, никак, перед тем как им куда-то ехать. Сами говорят, что их в наказание за стихи куда-то далеко посылают, а сами такие веселые да верткие. Так Василия Андреича рассмешили, что тот совсем от смеху задохся, хотя очень о них печалился. Я в соседней комнате посажен был спешное переписывать, так и я за ними, сам не зная чему, в голос смеялся, едва лист не обкапал…
Однажды, уже в конце лета, когда они были одни в комнате, Серяков спросил, что за человек был Аракчеев, которого в департаменте так часто поминают.
— А он и не человек был, — отвечал Антонов твердо.
— Ну, как не человек? Бес, что ли? — улыбнулся Лаврентий.
— Бесов глупые бабы выдумали, — так же решительно продолжал старый писарь. — А он хоть на вид и нашей породы был — две ноги, две руки и рожа богомерзкая, — да не было в нем того, что человека от зверя отличает: души не имел ни на грош. Смиренником прикидывался, гнусавил да губы, как монах-постник, поджимал, мундир до лоску вытертый, без орденов носил — вот я, мол, смотрите, каков скромен, — а сам одной властью над подначальными тешился. Ему, чтоб на вершок выслужиться, расторопность свою государю показать, хоть роту целую по «зеленой улице» пустить было — что мне трубку выкурить… Издох, и слава богу! Жаль, что раньше какая болезнь не прибрала… Хорошие люди рано мрут, а такой волк до седой хребтины рыщет… — Антонов перевел дыхание и продолжал сдержаннее, нос той же силой: — Ты не обольщайся, что в департаменте нашем многие твердят: «граф» да «граф». Ничего, поверь мне, по себе он не оставил, окромя подлых привычек да по своему образцу скроенных постных морд. Они-то его, как святого, и поминают, забыть не могут, как он их за низости разные отличал. А что дельное ввел, то все, будь уверен, не им выдумано. От злого человека и после смерти ничего, окромя зла, не останется…