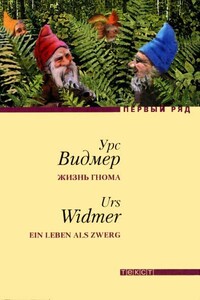Завтра не наступит никогда (на завтрашнем пожарище) | страница 10
И внезапно, среди всех этих сотен потерянных душ, я увидела ее. Обвязав чулок вокруг шеи, она хотела повеситься. Я не верила собственным глазам! Выкрикивая ее имя, я рванулась к ней.
— Розель, — кричала я, — мама!
Но она не ответила мне. Встреча со мной ее только испугала.
— Мама!..
— Я тебя не знаю, — сказала она.
Она хотела умереть. Умереть одна. Но я вцепилась в чулок, обматывавший ее шею.
— Бедная девочка, — в конце концов прошептала она. И в этой интонации снова была она, моя мать, та, которую я помнила так хорошо. — Бедняжка… ты пришла прямо в объятия смерти.
Я это знала. Но это не имело никакого значения. Без нее мне нигде не было жизни.
— Если мы не можем вместе жить, мы можем вместе умереть, — сказала я ей. Я уже говорила ей это когда-то в поезде, по дороге в концлагерь. Это была клятва, которую я дала себе.
И тут меня осенило! Почему они послали мою мать «налево», к смертникам? Ей ведь едва исполнилось сорок. Она была достаточно здорова. Все дело было в бесформенном черном одеянии, которое так ее старило.
— Меняемся одеждой, — сказала я. Она не поняла меня. Но времени на объяснение не было. Надо было сделать это, и сделать немедленно. — Меняемся одеждой. Быстро! — Не теряя ни минуты, я стащила с себя свою голубую юбку и красную кофточку. Ради бога, быстрее.
Еще минута — и я уже натягивала на себя ее черный балахон. Затем, отступив на шаг, посмотрела на нее. За эти несколько минут она помолодела на десять лет. Но лицо… оно по-прежнему было бледным, с глубоко запавшими щеками. Я послюнила палец, а затем стала тереть им желтую шестиконечную звезду. На пальце осталась часть краски, которую я и принялась втирать матери в щеки. Стало чуть лучше. Я повторила это снова… и снова. Ее щеки порозовели. Теперь я думаю, что краска тут была ни при чем — щеки порозовели оттого, что я с силой терла их пальцем. Так или иначе, эффект был поразительным.
— А теперь идем.
Я не стала дожидаться ее вопроса — куда. Не время было пускаться в объяснения. Я крепко зажала ее руку в своей. Если сказать честно, у меня не было четкого плана. Я знала только, что каким-то образом мы должны вернуться обратно, пройти через ограждение и оказаться на другой половине лагеря как можно дальше от обреченных на смерть: там, на другой половине, оставалась хоть какая-то надежда остаться в живых. Что мы теряли? И сколько можно было страдать еще?
Я потащила мать за руку, направляясь к границе бараков, из-за которых можно было выглянуть и понять, что происходит вокруг. Селекция все продолжалась. Новые жертвы пополняли списки живых и мертвых. Все так же грудились в длинной очереди женщины, медленно приближаясь к высокому симпатичному врачу в гестаповской форме. Он глядел на них и посылал туда, куда полагал, правильным, сдержанным движением руки. Налево. Направо. Налево. Направо. Затем капо и охранники довершали их судьбы. В колонну. В крематорий. На тех, кому суждено было остаться для принудительных работ, охранники обращали основное внимание — следовало навести «Ordnung», порядок, убедиться, что они стоят по шесть в ряд, а потому на тех, кто был отправлен «налево» и оказался по другую сторону заграждения, — на тех, кто был приговорен к смерти, они уже почти не обращали внимания. Они даже повернулись к ним спиной — как если бы их уже не существовало.