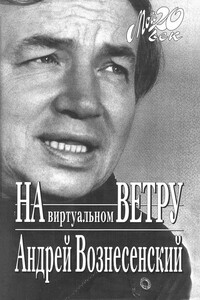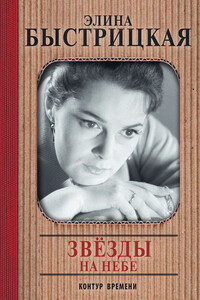Моя летопись | страница 26
— А вытирать я буду потом, когда мой валансьен[31] высохнет…
Вспоминали хлеб последних московских дней, двух сортов: из опилок, рассыпавшийся, как песок, и из глины — горький, зеленоватый, всегда сырой…
Аверченко взглянул на часы:
— Ну вот, скоро и вечер. Уж пять часов.
— Кажется, кто-то стукнул в окно, — насторожилась Оленушка.
Под окном Гуськин.
— Госпожа Тэффи! Господин Аверченко! — громко кричит он. — Вы должны непременно немножко пройтись. Ей-Богу, к вечеру нужно иметь свежую голову для звука голоса.
— Да ведь дождь идет!
— Дождь маленький, непременно нужно. Это я вам говорю.
— Он, может быть, хочет что-нибудь сказать, — шепчу я Аверченке. — Выйдите вперед и узнайте, один ли он. Если Робеспьер с ним, я не выйду. Я не могу.
Больше всего я боялась, что мне придется пожать руку этому Робеспьеру. Я могла отвечать на его вопросы, смотреть на него, но дотронуться — чувствовала, что не смогла бы. Такое острое истерическое отвращение было у меня к этому существу, что я не отвечала за себя, не могла поручиться, что не закричу, не заплачу, не выкину чего-нибудь непоправимого, за что придется расплачиваться не только мне самой, но и всей нашей компании. Чувствовала, что физического контакта с этой гадиной не вынесу.
Аверченко показался за окном и поманил меня.
— Не ходите направо, — шепнула мне хозяйка в сенях, делая вид, что ищет мои калоши.
— Идем посреди улицы, — шепнул Гуськин. — Мы себе гуляем для воздуха.
И мы пошли мерно и вольготно, поглядывая на небо — да, все больше на небо, — гуляем, да и только.
— Не смотрите на меня, смотрите себе на дождик, — бормотал Гуськин.
Огляделся, обернулся, успокоился и заговорил:
— Я таки кое-что узнал. Здесь главное лицо — комиссарша X.
Он назвал звучную фамилию, напоминающую собачий лай.
— X — молодая девица, курсистка, не то телеграфистка — не знаю. Она здесь всё. Сумасшедшая — как говорится, ненормальная собака. Зверь, — выговорил он с ужасом и с твердым знаком на конце. — Все ее слушаются. Она сама обыскивает, сама судит, сама расстреливает: сидит на крылечке, тут судит, тут и расстреливает. А когда ночью у насыпи, то это уже не она. И ни в чем не стесняется. Я даже не могу при даме рассказать, я лучше расскажу одному господину Аверченке. Он писатель, так он сумеет как-нибудь в поэтической форме дать понять. Ну, одним словом, скажу, что самый простой красноармеец иногда от крылечка уходит куда-нибудь себе в сторонку. Ну так вот, эта комиссарша никуда не отходит и никакого стеснения не признает. Так это же ужас!