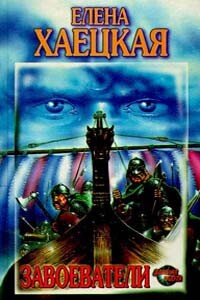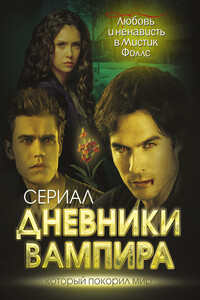Как писать книги | страница 94
Называя кого-то не по имени, а по примете — «Серый костюм», «сизый нос», «пикейные жилеты», — мы подчеркиваем малозначительность данного персонажа как личности. Нам не важно, что это чей-то сын, что это чей-то муж, что это человек со своими чувствами, своей судьбой, с какими-то мечтами. Нас интересует только то, что он одет в серый костюм и, следовательно, служит в некоем ведомстве, может быть, является шпионом или доносчиком. То же самое и с сизым носом, каковой, возможно, указывает на прискорбные пристрастия персонажа — которые и привели к полной утрате им других личностных характеристик.
Но бывают и другие варианты употребления части вместо целого. В «Белой гвардии» Булгакова, например, гениально дан эпизод, когда офицерское общество в доме Турбиных пьет за здоровье государя императора. «Загремели шпоры о стулья», пишет автор. В этой фразе «шпоры» служат обозначением офицеров, загремели о стулья — значит, офицеры встают. Он дает только одну деталь, деталь крайне значимую, определяющую. Усредненный автор написал бы, что «офицеры с бокалами в руках начали вставать, провозглашая здравицу». И ничего страшного нет в такой фразе, грамматически она правильная, стилистически она не ошибочная, но — совершенно бескрылая и скучная. Особенно если сравнивать с булгаковской. «Поэтому он ас, а вы — у-два-с».
Звукоподражания
Это очень короткий раздел.
Звукоподражания допустимы только в очень крайних случаях. Когда вам правда очень-очень надо.
«Так-так-так, говорит пулеметчик. Так-так-так, говорит пулемет».
Мой любимый отрицательный пример — из одной фэнтези-книжки зарубежного автора:
«Топ-топ-топ — сбежала по лестнице прелестная Дейрдре».
Лишние подробности
Когда-то наш замечательный преподаватель фотоискусства, большой любитель поговорить «вообще», в полутемной студии на 10-й линии В.О. (где-то там размещались когда-то и Бестужевские курсы, только в другой жизни), рассказывал о разной эстетике кино у разных народов.
«Как это будет показано в индийском кино? Там все будет подробно. Герой входит в подъезд. Поднимается по первому пролету, по второму, по третьему. Останавливается возле окна. Идет дальше. Еще пролет. Звонит в дверь. «Кто там?» — «Такой-то». Ему открывают. Он входит в коридор, проходит одну комнату, другую… Если не показать все эти детали, зритель не поймет, откуда герой появился в квартире. В европейском кино будет иначе: сначала герой смотрит на дом, и вот он уже сидит в квартире. Если, конечно, на лестнице его не ожидает что-то сюжетно значимое, бандит с ножом, например. Европейский зритель, наоборот, будет скучать, если ему расскажут во всех подробностях — как герой поднимался по лестнице».