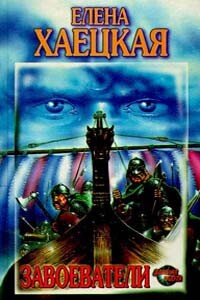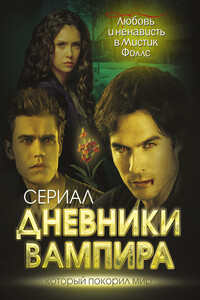Как писать книги | страница 68
При этом нужно помнить, что арго меняется постоянно. Реальное воспроизведение воровской речи невозможно. Гюго посвятил этой теме обширное исследование, включенное в романа «Отверженные». Арго — язык в языке, и при том язык тайный и переменчивый. В двадцатые годы арго вообще было другим.
Для имитации воровского арго принято использовать несколько всем известных слов, вроде «малина», «перо», «мокрое дело». Это работает и этого достаточно для создания определенного колорита. Не нужно изучать словари воровского жаргона (которые все равно устарели), выписывать оттуда всех «марух» и прочих и потом щеголять на страницах фразами, степень понятности которых равна «глокой куздре», которая «штеко булданула». Все равно придется делать примечания и переводить на нормальный язык. Вам нравилось читать многостраничные переводы с французского в «Войне и мире»? Мне не очень это нравилось. Вот и читателя незачем заморачивать. Он взял в руки книгу для того, чтобы отдохнуть, а не изучать лексику, которая ему никогда в жизни не пригодится.
Итак, для имитации арго достаточно нескольких общеизвестных слов. Ну, можно добавить парочку менее общеизвестных, если хочется, но не переборщите.
А вот как быть с имитацией арго двадцатых годов? Даже самый неискушенный читатель захочет тогдашнего колорита. Каким словом из тогдашнего арго порадовать?
Я читала книжки о беспризорниках двадцатых, в том числе великолепный роман Авдеенко «Я люблю», выискивала то, что можно было бы объяснить без примечаний. В конце концов, ограничилась словом «банщик». Банщик — это человек, промышляющий кражами и плутовством на «бане», т. е. на вокзале. Не знаю, употребляется ли оно до сих пор, в двадцатые было распространено — и послужило маркером тогдашнего арго в романе. Это слово не нуждалось в подробных комментариях, ведь до сих пор довольно распространенной является разговорная практика — называть «Финляндский вокзал» «Финбаном». Поэтому достаточно было сказать, что «банщики» крутились на вокзале, предпочитая Московский бан другим. Я не хочу сказать, что «Ленька Пантелеев» был такой уж великой творческой удачей или что в этом романе мне удалось идеально воссоздать колорит петроградской речи начала двадцатых годов, я просто рассказываю ход моих мыслей при той работе.
Следующий стиль — научный. Которым пишутся научные статьи. Для этого стиля, в частности, характерно употребление местоимения «мы» вместо «я»: «Мы предполагаем, что соляная кислота бла-бла-бла». Хотя на самом деле предполагает автор статьи, который «я» (если у него нет соавторов). Как говорила моя дочь, «для реферата нужно просто перед каждой фразой писать: уже доказано, что… общеизвестно, что…» — и строчила в тетради какую-то ерунду, снабжая ее этими характерными признаками «научной работы».