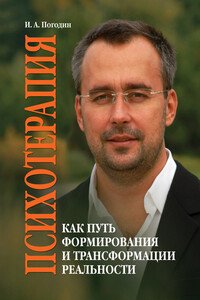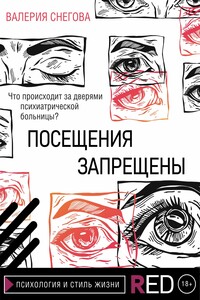Семья. Оглядываясь вперед | страница 18
Источник оценки роли жены и матери в Домострое – представление о браке как христианском таинстве. Жена в Домострое является регулятором эмоциональных отношений в семье, она же отвечает за семейную благотворительность.
Домострой рекомендует жене «мужу уноровить», то есть поступить сообразно с его желаниями и представлениями. Из текста следует, что в семейных отношениях осуждаются всякие «неподобные дела: блуд, сквернословие и срамословие, и клятва, и ярость, и гнев, и злопамятство…» [23]
Любовь к детям в Домострое рассматривается как чувство вполне естественное, так же как и забота об их телесном благополучии; менее распространенной считается забота о духовном развитии отпрысков. Однако по своему положению в семье они ближе к слугам, чем к родителям. Главная обязанность детей – любовь к родителям, полное послушание в детстве и юности и забота о них в старости. Избивающий родителей человек подлежит церковному отлучению и смертной казни.
Все человеческие поступки делятся на «доброе дело» и «злое дело». Среди добрых дел особенно чтутся «труды праведные». По Домострою, нормой оказывается умеренная достаточность, как в имущественном, так и в эмоциональном плане.
Немалым образом характер межличностных отношений проявляется через рекомендации о наказаниях: бить следует за большую вину, наедине и потом «примолвить» и «пожалеть».
На наш взгляд, наиболее интересным для понимания национального характера семейных отношений является упоминание о зависимости от людского мнения. Вместе с тем что при этом социальному окружению положено всегда демонстрировать семейное благополучие и строжайше запрещается разглашать семейные тайны, возникает представление о двойственности морали: «для себя» и «для людей». Домострой указывает человеку, что страшнее нет беды, чем «от людей смех и осуждение». Впоследствии над русским человеком повиснет вопрос такого же рода: «Что станет говорить княгиня Марья Алексевна?» Возможно ли, хотя бы в перспективе, жить без оглядки на других, согласно не внешним, а внутренним регулирующим принципам? Или это неуничтожимо…
В поисках ответа на этот вопрос не мешает обратиться к понятию симфонической личности (Л. П. Карсавин), которое означает органическое единство многообразия или такое единство множества, когда единство и множество отдельно друг от друга не существуют. Здесь очевидны отзвуки принципа соборности, то есть рассмотрения религиозной общины как живого целого.