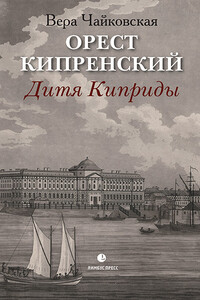Тышлер: Непослушный взрослый | страница 39
И все же он картину замазал… Почему? Учится стрелять не махновец, не «акула империализма», а молодой паренек в фуражке, с кем автор вполне мог отождествиться. Для многих «советских парней» в этом не было бы ничего необычного или предосудительного. Достаточно вспомнить работу Александра Самохвалова «Военизированный комсомол» (1933), где «учатся стрелять» не только парни, но и девушки, залегшие на поле с винтовками. У Самохвалова — это обыкновеннейшая «агитка», Тышлер себе такого не позволял. Он писал картину вдохновенно, пытаясь изжить какие-то личные негативные эмоции, но… Тут возникла преграда. Саша Тышлер никогда прежде не отождествлялся, да и потом не будет отождествляться с теми, кто «стреляет». В этом его разительное отличие от «стандартного» человека эпохи.
Он всегда с безоружными, с голубями и ангелами, которых убивают и расстреливают, с закалываемым быком, с погибшими в погроме, с расстрелянными ночью…
Это из тех негласных внутренних императивов, которым он будет следовать всю жизнь (притом что очень взрывной, и даже в письмах будущей жене Флоре порой выражает желание кого-то «побить»). Да и стреляет он прекрасно.
Но… Тышлер — автор мистический, хотя об этом никогда не распространялся. Тогдашняя критика приклеила к нему ярлык «мистика», но в политико-идеологическом плане. А его «мистика» — убежденность, что все, написанное на холсте, — некая «живая» реальность, за которую он в ответе и которая влияет на его жизнь. Это, в сущности, большая русская культурная традиция — связь искусства с «божественными» энергиями бытия. Не мог Тышлер оставить картину, где его «двойник» учится стрелять. Но и уничтожить ее не хватило сил — картина легкая, красивая, вдохновенная. Но внутренний запрет был безоговорочным. Он картину замазал, чтобы не искушала… Это в 1931 году! А в момент тяжелейшего духовного кризиса 1925 года его положение оказывалось почти безнадежным! Остаться безоружной жертвой в борьбе с «агрессией» мира — значило неминуемо погибнуть, утратить радость, способность писать! Три тышлеровских автопортрета 1925 года как раз и фиксируют момент полной растерянности. Душа замерла, соприкоснувшись с «со-природными» ей страхами…
Глава четвертая
ПОИСКИ ВЫХОДА
…Куда ж нам плыть?
А. Пушкин. Осень (отрывок)
Уже в 1926 году накал «ужасов» и «страхов» ослабевает, о чем свидетельствуют работы этого времени, в особенности «Директор погоды», который выставлялся на Второй выставке ОСТа 1926 года, и «Женщина и аэроплан», показанная на Третьей выставке ОСТа в 1927 году.