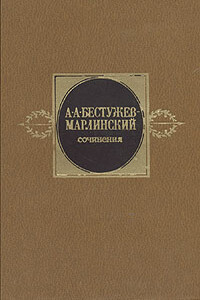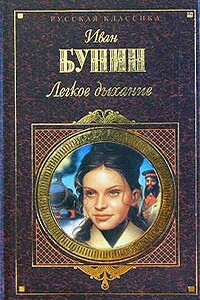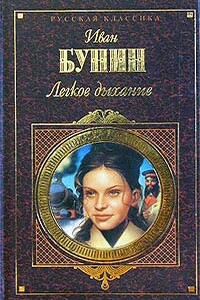Письма из Дагестана | страница 14
Ночь была темна, как судейская совесть. Скупое небо погасило все огоньки свои. Мы брели по колено в грязи, цепляясь за терновники, запутавшие окрестный лес непроницаемою оградою, и каждый миг в опасности слететь в речку Дарбах, по крутому берегу которой шли. Вы бы сказали, что идет армия мертвецов, покинувших свои могилы, – так безмолвно, так неслышимо двинулись мы вперед по излучистому яру, в двойном мраке ночи и тени леса, под нами склепом склоненного. Колеса не стучали, подковы не брякали по болоту; нигде ни голоса, ни искры. Лишь изредка раздавался по бору удар бича или звук пушечной цепи. С невероятным трудом вытаскивали мы на людях орудия… Наконец не только под нами, но и под артельными повозками кони пристали, выбились из сил… Арьергард оттянулся… Полковник Миклашевский[37] налетел соколом: «Руби колеса, жги повозки, жги артиллерийские дроги! Стоит ли эта дрянь, чтобы из-за нее опаздывать! Истребляй: я за все отвечаю!» Велено – сделано. В пять минут дорога была чиста, – вещи разобрали по рукам… коней пристегнули под пушки; прибавили к ним и офицерских верховых… Покатились, пошли быстро, легко, весело. Миклашевского слово ободряло солдат лучше двойной чарки. С неимоверною скоростию перелетели мы тридцать пять верст, и часу в девятом утра послышали впереди жаркую перестрелку: это дралась наша татарская конница. Шомпола зазвучали. Гренадеры!., ходу!.. Скорым шагом, беглым шагом!.. Выстрелы из лесу начинают нас пронизывать – насилу-то догадались. Если б неприятели заранее заняли чащу, многие бы из нас не донесли своих голов до Дювека, – да вот и он – легок на помине… вот Дювек, который считается неприступною твердынею Табасарани. Неприступная – забавное выражение! Его нет, слава богу, в словаре русского солдата. Вперед, вперед!.. Дело загорелось. Селение Дювек стоит в развале ущелья на скате большой горы. Над ним на полтора пушечных выстрела лепится выше деревня Хустыль. Речка Дарбах, извиваясь в крутом, но широком русле, образует перед Дювеком колено. Правый ее берег против селения от множества ключей, не имеющих истока, затоплен вязким болотом; дремучий лес обнимает всю окрестность. Егеря 42-го полка пошли вправо чрез топь, мы – влево чрез крутой овраг, на дне которого текущий ручей, впадая в Дарбах, образует пред Дювеком букву у, – все под убийственным огнем из лесу, из домов, из завалов. Перед нами еще ходили на приступ наши спешенные мусульмане; но когда Мамат-ага, бесстрашный помощник полкового командира, был убит, когда они потеряли лучших стрелков своих, куринцы их опередили – слезли в овраг, стали подниматься на противоположную круть… густей, густей гранаты полетели над нашими застрельщиками… Ура, в штыки! А уж дело решенное, что против русского штыка ничто устоять не может; завалы были отбиты, неприятель стоптан, но, ожесточенный поражением, засел в домах, стрелялся, резался; ему было жаль богатых пожитков, свезенных в Дювек из всех окрестных возмутившихся деревень, как в твердыню, которой не мог взять и сам ужасный шах Надир, куда не проникал даже Ермолов, которого слава ярче Искендаровой