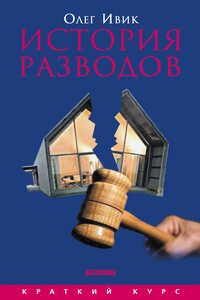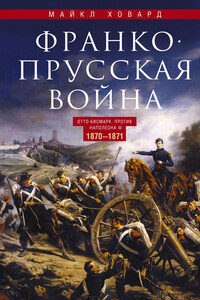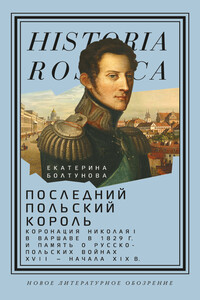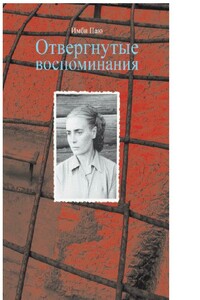История атомной бомбы | страница 56
Между тем Нильса Бора наперебой приглашают по всему миру с докладами. В июне 1922 года он приезжает наконец со своими семью докладами в Гёттинген, во всемирно известный Математический центр. На летний семестр 1922 года в университет Георга Августа записалось триста одиннадцать женщин, это уже десять процентов студенчества — отрадный рост по сравнению с временами Марии Кюри и Лизы Мейтнер.
Арнольд Зоммерфельд отправил в Гёттинген своего студента Вернера Гейзенберга, оплатив его поездку из Мюнхена. Чтобы тот смог живьем увидеть великого Нильса Бора. На вокзале Гёттингена царит жуткий кавардак и давка из-за того, что железнодорожные пути перекладывают на второй уровень. Мюнхенцам приходится пробираться к выходу через пакгаузы, мимо строительных канав и отвалов. Когда они ступают на привокзальную площадь, там приспущены флаги по случаю отторжения Восточной Верхней Силезии от Германской империи — условие Версальского договора. Но вовсе не на флаги обращен тоскливый взгляд Гейзенберга, а на цветущее и благоухающее великолепие палисадников. Он страстно ждет пощады от аллергического сенного насморка, неотступно донимающего его каждую весну.
В переполненной большой аудитории гёттингенского Физического института собрались ведущие физики и математики Германии. К стилю докладов Бора еще нужно привыкнуть. Он, по своему обыкновению, тихо бормочет, и от слушателей, особенно в задних рядах, это требует чрезвычайной концентрации. Многие сидят, подавшись вперед и приставив к уху ладонь. Нередко слушатели становились свидетелями его work in progress. Они слышали и видели, как он спонтанно — возможно, взволнованный присутствием знаменитых гостей, — прямо в момент выступления выдвигает альтернативные тезисы.
Если и присутствует в Гёттингене «гений места», то это строгий дух математики. После того как Карл Фридрих Гаусс, Бернард Риман и Герман Миньковский задали здесь новый масштаб науки, сподвигнувший Альберта Эйнштейна к его общей теории относительности, в Гёттингене и теперь преподают мировые корифеи — такие, как Феликс Клейн и Давид Гильберт. Все они однозначно доказали свои теоремы. Математические истины остаются вне всяких сомнений, тогда как перманентные поиски Бора и его интуитивное нащупывание основы всего сущего давно не отвечают строгим критериям собравшихся здесь математиков. Поэтому Бор вдумчиво подбирает слова. Строгие наблюдатели хоть и признают авторитет Бора и впечатлены его харизмой, однако ропщут на отсутствие однозначности и раздражающую ауру таинства, которым не место в естественных науках. На их вкус, Бор оставляет своим слушателям слишком много простора для собственных интерпретаций. Но именно это обстоятельство приводит молодого Гейзенберга в приподнятое настроение. Он способен проникнуться смутными чувствами Бора и понять его боль расставания с очевидностями классической физики. В метаниях от наглядности к трудно поддающейся пониманию абстракции именно эта приблизительность и скрытность и кажутся ему единственно уместным изображением квантовой теории: «...и почти за каждым тщательно сформулированным тезисом просматриваются длинные шеренги мыслей, из которых произнесению поддается лишь начало, а конец теряется в полутьме очень волнующей меня философской позиции» — так передает Гейзенберг настроение в аудитории.