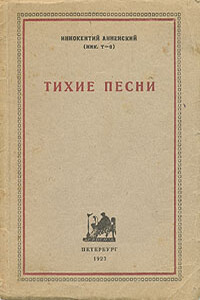Сигналы Страшного суда | страница 58
26 сентября 1901
На берегу моря в Аркадии
350. «Проспавши двенадцать часов…»
<Сентябрь 1911>
351. Рассуждения о Божьем величии
Суета сует и всяческая суета.
Екклесиаст
17 августа 1912
28 апреля 1946
352. «Живи, кто умереть не может…»
13 января 1928, Ленинград
Апрель 1946
От составителя
Имя автора этой книги Павла Яковлевича Зальцмана (1912–1985) если и известно читателю, то, скорее всего, не в поэтическом контексте: художник, график, ученик Павла Филонова и член группы МАИ («Мастера аналитического искусства»), художник-постановщик «Ленфильма», после войны – главный художник киностудии «Казахфильм», преподаватель истории искусств различных алма-атинских вузов, заслуженный деятель искусств Казахской ССР… Что ж, еще один «пишущий художник»? Конечно, многие мастера кисти – особенно в XX веке – брали в руки перо, и небезуспешно. Нам известна проза К. Петрова-Водкина и Ю. Анненкова, стихотворения М. Шагала и В. Кандинского; поэзия русского исторического авангарда по большей части принадлежала руке профессиональных художников (В. Маяковский, А. Крученых, Е. Гуро и др.). Однако случай Павла Зальцмана представляется несколько иным – не останавливаясь на отдельных стихотворениях, попробуем охватить общий план его поэтического мира и обозначить ряд моментов, характерных для его поэтики.