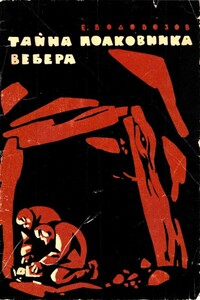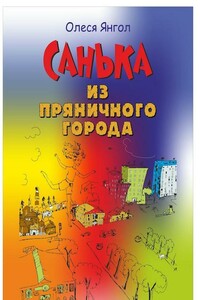В рассветный час | страница 71
Тогда же закрыли в нашем городе польский университет, польский театр, польские школы. И вот — ты сама сейчас видела, Саша! — нам, полькам, нельзя говорить на своем родном языке… Только по-русски!
Все это Олеся и Лаурентина рассказывают мне страстным, возбужденным шепотом, и я слушаю, взволнованная их рассказом чуть не до слез.
— Только помни: что мы тебе сейчас рассказали, — никому, ни одному человеку! — шепчет Олеся.
— Ну, господи! — даже обижаюсь я на их недоверие. — Неужели же я побегу звонить про такое? Ребенок я маленький? Или глупая приготовишка?
Я вхожу в класс какая-то вроде оглушенная, у меня в ушах все еще стоит жаркий шепот Олеси и Лаурентины.
В классе никого нет, пусто. Я усаживаюсь за своей партой, горестно подперев голову рукой. Так все нехорошо! И молоко это окаянное… и девочкам-полькам почему-то не позволяют говорить на своем языке!
Дверь из коридора приоткрывается. В нее несмело входят две девочки — не из нашего отделения, а из первого. Обычно мы друг к другу в чужое отделение не ходим. Девочки из первого — гордячки, они смотрят на нас, второе отделение, сверху вниз. А мы — самолюбивые, насмешницы, мы не желаем унижаться перед «аристократками»… И вдруг почему-то две из первого отделения к нам пожаловали!
Не заметив меня, одна из них спрашивает у другой:
— Думаешь, он сюда придет?
— Ты же видела, прямо сюда пошел! — И вдруг, увидев меня: — Людка! А как же эта?
Людка машет рукой:
— Не беда! Она не наябедничает. Мне Нинка Попова говорила: ее Шурой звать, она ничего девочка…
Мне смешно, что они переговариваются обо мне в моем присутствии. Словно меня нет или я сплю.
— Видишь? — продолжает Люда. — Она смеется. Она ничего плохого не сделает.
Выглянув в коридор, Люда испуганно вскрикивает:
— Идет, Анька! Идет сюда!
И обе девочки застывают в ожидании около классной доски.
Я тоже с любопытством смотрю на дверь: кто же это там идет?
В класс входит сторож-истопник Антон Он в кожухе (желтом нагольном тулупе). За спиной у него вязанка дров, которую он сваливает около печки с особым «истопническим» шиком и оглушительным грохотом. Кряхтя и даже старчески постанывая от усилия, Антон опускается на колени и начинает привычно и ловко топить печку. Ни на кого из нас он не смотрит, но я не могу отвести глаз от его головы — никогда я такой головы не видала. Не в том дело, что она лысая, как крокетный шар, — лысина ведь не редкость. Но при этой совершенно лысой голове у Антона борода — как у пушкинскою Черномора! Длинная седая борода, растрепанная, как старая швабра. А лысина блестит, как начищенный мелом медный поднос. По ее сверкающей желтизне рассыпаны крупные родимые пятна и, как реки на географической карте, разветвление вьются синевато-серые вены. Сейчас, от усилия при работе, эти вены взбухли и особенно четко пульсируют. Очень интересная голова у истопника Антона!