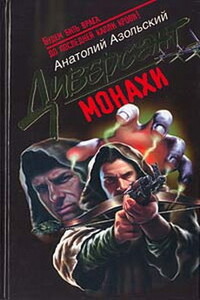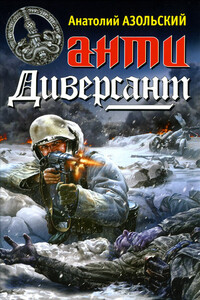Севастополь и далее | страница 28
В зимней вечерней темноте всего не разглядишь, и только утром Суриков осознал, какие беды несут ему бабьи баталии из-за помоев. О них может прознать начальник училища и пресечь безобразия исконно русским способом — запретить раздачу помоев. Но тогда они неизбежно станут втихую выливаться за борт, то есть на лед, что осквернит бухту, и тогда только ленивый дурень не обвинит командира дивизиона в нарушении по крайней мере семи статей Корабельного устава. Хоть ставь контейнеры у каждой сходни — а выливать помои будут за борт, таков уж русский человек, сколько его чем ни стращай.
Неделю Суриков приглядывался к схеме выноса помоев на берег и увоза их на саночках. Баб сопровождали мужики, конвой, или эскорт, а порою и просто подмога, тягловая сила, кое-кто из баб привозил на санках молочный бидон, не довольствуясь полученным ведром высококалорийного корма, что, однако, нарушало принципы справедливости, заложенные в душе каждого русского человека.
А время подстегивало, весной дадут капитана 3 ранга, возраст, должность и звание позволяют поступать в академию. Что-то надо было придумывать, вносить какой-то порядок в помойное дело дивизиона. Две бабы согласились бесплатно стирать скатерти в кают-компаниях, за что имели право вне очереди получать по два ведра помоев в сутки. Зато еще две бабы давали понять, что «натурой» оплатят помои, а это уже попахивало морально-политическим разложением личного состава дивизиона, и разврат мог перекинуться в стены училища, на тушение такого пожара прибыли бы комиссии из Москвы, двери академии захлопнутся перед носом Сурикова.
С пацанами, понятно, управиться легче, пацанов стали кормить в кубриках, кое-что разрешали уносить в котелках; некоторые матросы смекнули и стали похаживать к одиноким мамашам, помогая им в хозяйстве, что, верно предположил Суриков, дисциплину укрепит. Но как быть с бабами?
Время шло, а драки с применением звонких пустых ведер не прекращались, не помогала и предварительная запись, приказное же установление очередности успеха не имело, отходы корабельных камбузов продолжали с боем добываться бабами.
Почти береговая жизнь (а тосковала все же душа по многомесячным тралениям!) позволяла Сурикову частенько наведываться в Ленинград, где он познакомился со студенткой ЛГУ по имени Элеонора. Девица была расчетливой, заглядывала и в день грядущий, и в час текущий, но и робкой ее не назовешь. Когда на пятый день знакомства Суриков появился в ее квартире и с ходу вознамерился посягнуть на девичью честь, Элеонора гневно отстранила его, пальцем показав на кресло, где надлежало сидеть наглецу, закурила, минут пять молча дымила, притоптала окурок в пепельнице, что означало конец думам, и затем мрачно промолвила: