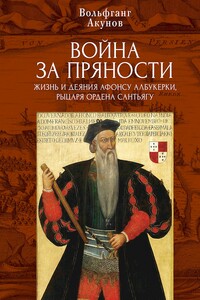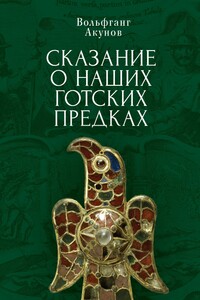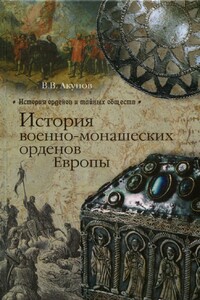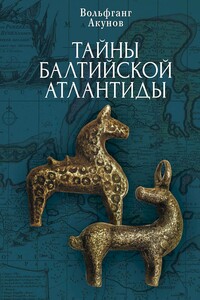Военно-духовные ордена Востока | страница 131
Следующей целью монголо-татарских завоевателей была столица аббасидских халифов — сказочно богатый город Багдад (название которого означает в переводе с персидского языка «Богом данный» или «Дар Бога»). К описываемому времени халифы багдадские практически утратили всякую реальную власть, кроме духовной, над мусульманским (а фактически суннитским) миром, выполняя (сначала при сельджукских султанах и азербайджанских атабеках, а позднее — при египетских султанах) роль, сравнимую с ролью средневековых японских микадо (тённо) при воинственных сегунах, носителях реальной власти.
Тем не менее халиф багдадский Мустасим (подобно папе римскому в Италии) по-прежнему владел своей собственной территорией, защищать которую от монголо-татар он вознамерился во главе своего собственного войска, попавшего в искусно расставленную монголами ловушку и практически уничтоженного до последнего человека. Сам халиф был по приказу ильхана Хулагу, по одной версии, зашит в мешок и забит до смерти палками; по другой версии, плотно завернут в ковер и затоптан до смерти монгольскими лошадьми; по третьей — привязан к хвостам четырех диких коней и разорван ими на части; по четвертой — брошен живым в огромную полую башню, доверху заполненную пеплом, в котором задохнулся; по пятой (приведенной в уже цитировавшейся нами выше книге венецианского купца и путешественника Марко Поло, между прочим, много лет служившего великому хану монголов Хубилаю в далеком Китае, центре Великого Монгольского государства, и объездившего все татаро-монгольские владения) — заточен ханом Хулагу в своей собственной сокровищнице, богатства которой пожалел потратить на наемное войско, достаточное для отражения монгольского нашествия, и уморен голодом среди бесчисленных сокровищ — и все это лишь для того, «чтобы не проливать публично кровь владыки правоверных»!
В 1261 году мамслюкский султан Египта Бейбарс (куман, то есть кипчак, или, по-нашему, половец, по происхождению) пригласил единственного уцелевшего после разорения Багдада монголами Аббасида, дядю (по другой версии — брата) убитого монголо-татарами халифа Мустасима, к себе в Каир, где и провозгласил его халифом всех правоверных. С тех пор мамелюкские султаны Египта рассматривали присутствие в египетской столице Каире аббасидских халифов как гарантию легитимности своей собственной власти. После разгрома мамелюков и завоевания Египта турками-османами в 1517 году последний аббасидский халиф был вывезен в Стамбул (так турки называли Константинополь), где и отказался от своего халифского титула в пользу турецкого султана Селима I, считавшегося с тех пор (по крайней мере формально) не только светским, но и духовным владыкой почти всех мусульман мира (придерживающихся суннитского толка ислама). Его власть не признавали только шииты, считавшие своим главой персидского шаха, да уцелевшие измаилиты-низариты, считавшие (да и по сей день продолжающие считать) таковым Ага-хана, потомка последнего Горного старца и имама (о нем у нас еще пойдет речь далее).