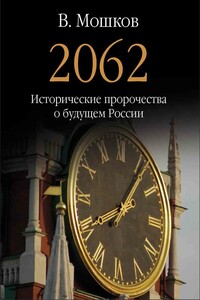Новая теория происхождения человека и его вырождения | страница 96
В заключение приведем некоторые черты, которыми характеризуется русское простонародье. О белоруссах Элиза Оржешко пишет, что это «народ, который легче всего подозревается в неспособности к мышлению и в безразличии ко всему, что не находится в ближайшей связи с его очень низменными потребностями и интересами». О вологодских крестьянах пишут, что у них «на отвлеченных предметах внимание удерживается вообще недолго». «Тайные религиозные понятия простолюдина о загробной жизни, – пишет местный священник о полещуках, – безумные суеверия о душе и связи ее с телом. И неудивительно. Если по своей неразвитости он не может верно понять факта из мира видимого, его окружающего, то тем более недоступны его пониманию умозрения истины или отвлеченные предметы. Спросите его, как он представляет себе душу, для чего человек живет на земле, что будет с ним после смерти, и вы услышите от него равнодушный ответ: «мы люди темные, откуда нам знать про гэто, Бог видае».
В параллель к тому, что сообщалось нами выше о дикарях, не выносящих даже легкого напряжения мозга, приблизительно такой же отзыв случилось нам найти и о низших сословиях Европы. «Общеизвестен факт, – пишет проф. Шимкевич, – что люди, занимающиеся всю жизнь физическим трудом, совершенно не выносят умственного напряжения. Полный силы и здоровья крестьянин, посаженный за азбуку, после непродолжительного умственного напряжения, иногда падает в обморок».
С умственной неподвижностью у простолюдинов иногда соединен поразительный консерватизм. О гуцулах (русских горцах в Галиции) Головацкий говорит: «Они строят дома по обычаю своих предков; лошадиная упряжь, убранство мужчин и ожерелья женщин, до малейшей пуговицы и пряжки, покрой одеяния до малейшей каймы и обшивки все столь определенно и неизменно, как бы в статуе вылито или долотом ваятели выковано».
А вот свидетельство о лени и беспечности крестьян, свойствах особенно характерных для дикаря: «Если у белорусса нет крайности в насущных потребностях, он обыкновенно мало заботится о будущем». У белоруссов же наблюдается и миролюбие, которым так отличаются дикари: «Заносчивость и резкие слова соседа не вызывают в могилевском бело-руссе столько же резких ответов даже при толчке со стороны задорного спорщика. Когда другие побуждают обратиться к суду или «дать сдачи», крестьянин отвечает: «нехай ему Бог отдасць». Крестьянин как бы ни был обижен кем-либо, весьма скоро забывает нанесенную ему обиду. Разбои и грабежи, появляющиеся в других местностях в тяжкие неурожайные годы, – вовсе неизвестны у могилевских белоруссов». Наконец, вот еще одна черта, сближающая нашего крестьянина с такими народами, как китайцы, но происходящая в сущности от слаборазвитой нервной системы – это полное равнодушие к смерти. «Трудно себе представить, – пишет Дембовецкий, – как бесстрашно и покорно встречает смерть белорусский крестьянин. За редкими исключениями, умирающий делает свои устные завещания с поразительнейшею подробностью, причем им не будут забыты не только родные, но и их последующая жизнь в тонких мелочах».