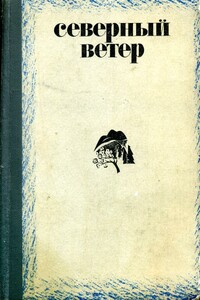Птицы | страница 9
— Кто кричит?
— Грачи, дорогой, грачи. Да ты не смейся, — узнаешь. А теперь — на-ле-во! И марш за мной!
Через секунду мы стояли уже в маленькой очень удобной комнате.
— Располагайся тут, отдыхай. А я помогу жене. — И Леня исчез. А я начал осматриваться. Комнатка была просто чудесная. Направо, у стены, стояла кровать, а рядом с кроватью — небольшой стол, на котором лежала стопка тетрадок. У другой стены возвышался большой книжный шкаф под старину — и мне сразу же захотелось открыть его. Но я открыл первым делом створку окна.
В комнату ворвался прохладный сосновый воздух. Сосны шумели, грачи кричали, и в груди у меня все поднялось и замерло, и я понял, что со мной должно что-то случиться хорошее, — удивительное, и я еле-еле выдохнул из себя, — и от груди сразу же отлегло. Грачи кричали рядом, куда-то собирались, спешили… «Но куда же они спешат?» — спрашивал я себя и улыбался. В груди поднималось чудесное обволакивающее тепло, и вдруг я вспомнил такое далекое, такое нежданное… И даже не верилось, что это со мной было… Может, из какой-то книжки пришло, может, приснилось мне сейчас, наяву. Но вначале возник голос, и я сразу узнал его: это бабушка моя щурилась и покачивала головой:
«Насеял отец две десятины гороху. И повадились грачи на этот горох летать. Он и поймал одного грача, прямо за крыло ему крепко вцепился, хохочет: „A-а, говорит, каркалко, попался ты мне, не уйдешь“. Только хочет он его бить, а грач — „Не бей меня, пожалей, я тебе пригожуся, я тебе что-то дам“. И вот уж в клюве у него — скатерть откуда-то. Да уж и грач говорит: „Шита, брана скатерть, развернись, раскатись! Дай нам, добрым молодцам, попить, погулять!“ Скатерть развернулася, раскатилася и явилося на ней все — прямо ешь — не хочу. Молодец ты, каркалко, слово выполнил, — сказал отец. И отпустил грача».
Я улыбнулся, и захотелось удержать это, побыть с ним… Но голос уже пропал и не возникал во мне.
Закричали грачи. Ох, грачи, грачи… Иногда эти крики прерывались, замолкали на время, видно, стая отлетала куда-то, и сразу же после этого оживали сосны. И этот монотонный, зеленый шум заходит в створку, и мне захотелось здесь остаться надолго. И я знал, почему захотелось. Шум сосен походил на шум моря, а море я любил…
Потом взгляд мой упал на кровать. Гора подушек манила к себе, успокаивала. На этой горке лежала пачка свеженьких простыней. Эго же для меня они, для меня — догадался, и сразу же благодарность сдавила сердце, и я подошел к самой створке. Мне нестерпимо хотелось в бор — сосны покачивались, задевали друг друга, шум хвои был как шум прибоя. Он наплывал такими же волнами, то спадая, то нарастая. И хотелось слиться с ним, с этим шумом, так же, как порой хочется слиться с прибоем, обнять его, раствориться, чтобы только одно тело, одна душа… Но вот шум прервался, как будто на него надвинули крышку. А эта крыша была — громкие крики. И вдруг я понял, догадался: у грачей, наверно, вылетели из гнезд грачата, и родители учили их летать… Какие они счастливые! — подумал я о грачатах. — Сегодня они впервые узнали небо! И в этот миг меня отвлекли. В двери кто-то стучал ровным вежливеньким постукиваньем. Я открыл — на пороге был Леня. На нем — белая, отглаженная рубашка. Все блестело, переливалось, точно он именинник, а не жена.