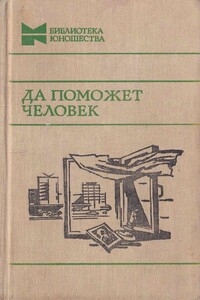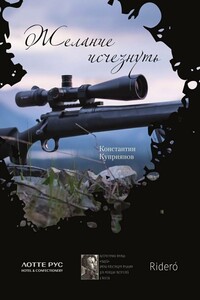Счастливое кладбище | страница 22
Возле своей хижины Карюхин увидел толпу и понял, что опоздал. Варвара-самозванная лежала не внутри, где он ее оставил, а снаружи, прикрытая тряпками с его топчана. Человек в белом халате, врач или фельдшер, велел откинуть это тряпье — Варвара лежала с открытыми, остановившимися глазами. «Она мертва, мужик!» — сказал он, сел в машину, и машина уехала.
Варфоломеев что-то говорил Карюхину, но тот не слышал, тупо смотрел на Варвару-самозваную, такую хрупкую, плоскую, с застывшим взглядом потухших глаз. Тело ее, белое, как обтесанное деревце, было в синих кровоподтеках, опавшие груди угадывались по темным капелькам сосков. Лицо было спокойно в мертвой своей неподвижности и показалось Карюхину даже чем-то не то чтобы привлекательным, но иным — сгладились острота подбородка и носа, впалость щек, губы, напротив, припухли и были чуть приоткрыты, словно она в последнее мгновение хотела что-то сказать или даже поцеловать кого-то. Ветер шевелил ее волосы, прядь упала на глаза, он откинул ее и провел по лицу покойницы ладонью, чтобы опустить веки. Но глаза не закрылись, так и смотрели в живой мир, и в зрачках, казалось ему, отражалось синее небо.
Варфоломеев сказал, что она долго спала, а потом внезапно изо рта ее хлынула кровь, то ли рвало ее, то ли кровь текла из горла, она хрипела, захлебывалась, он вынес ее на воздух, и кровавая рвота скоро утихла, женщина только икала, вздрагивая, и будто заснула опять, но и во сне икала, на губах ее пузырилась темная пена. Он не заметил, когда она перестала стонать, значит, так и умерла во сне, кровавая пена застыла на подбородке.
Карюхин выпил воды, которую утром принес из родника, вода была сладкая, еще холодная, он пил жадно, ощущая, что с каждым глотком будто утихает внутренняя дрожь, которая била его весь день. Напившись, лег на топчан, где еще недавно лежала Варвара-самозваная, он надеялся, что уставшее тело его расслабится, если он сумеет заснуть хотя бы ненадолго. Не смог. Пахло кровью, которая лужицей высыхала на полу.
Смерть девушки словно сроднила его с нею. Ничего он не знал о ней, но ощущал будто родство какое-то, даже то, что она звалась Варварой, усиливало его скорбь, напоминая о той Варваре, которую он любил и которую жалел в эти минуты, словно это над ее мертвым телом он только что стоял. Нет, Варвара-самозваная даже и с искореженным лицом не казалась ему сейчас некрасивой в своем застывшем покое.
Боже ж ты мой, для чего мы живем? Для чего он, Карюхин, топчет землю, неужели и ему суждено сгнить на этой мусорной свалке? Что останется от него на земле? Ничего. Пустота. Как и от этой Варвары. Нет, нет, вдруг подумал он, от нее осталась песня, которую она пела, печальная песня, отозвавшаяся скорбью в людях, слушавших ее в притихшем вагоне. Ведь помнит же он, Карюхин, пронзившую его тогда грусть, и другие, наверно, помнят. Потому, быть может, и рассердился он на нее, что нарушила его покой. Вот эта песня, задевшая другие сердца, и осталась от нее. А от Варвары-пухлощекой останутся детки Ванька и Манька, чтобы продолжать ее жизнь. А что останется от него, Карюхина? Гниющий хоздвор в погибающей деревне? Черные угли сгоревшей избы? Да и они, наверное, давно заросли травой-лебедой. Он — пустоцвет, сухая трава перекати-поле, которую гоняет ветер. Как это случилось? В чем он виноват? Вроде бы никакой вины за собой он не знал. И все же вина жила в нем — и перед самим собой, и перед разорившимся ООО, и перед обеими Варварами…