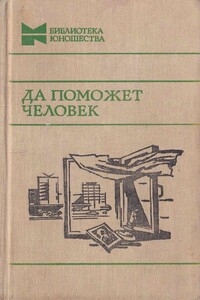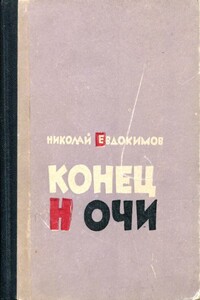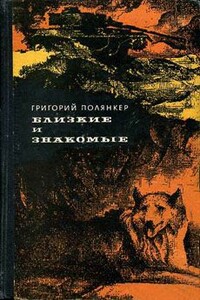Счастливое кладбище | страница 17
От мыслей таких Карюхин расстраивался, наливал себе еще. Однако он стал замечать, что, сколько бы ни пил, водка почему-то не действовала на него так, как раньше, не веселила, а приводила в уныние. Он пил и пил, пытаясь залить, заглушить тоску, но, наоборот, будто трезвел, будто мозги его не мутнели, а прояснялись, и он вдруг словно взглядывал на себя со стороны, удивляясь — это он или не он, Гришка Карюхин, сидит на вонючей помойке, жрет гнилую закуску и отчего ему так совестно становится, так стыдно. За что совестно, за что стыдно? Что он такое совершил, чтобы стыдиться себя самого?
И пока еще не начинало смеркаться, было еще светло, он тихо вставал и брел от костра в лес к деду Афоне. Элиза бежал за ним. Эх, Элиза, Элиза, кобель с сучьей кличкой, тихий, ласковый пес, такой же покорившийся жизни, как и он сам, Карюхин.
Садясь у деда Афони, прислоняясь к его теплому стволу, Карюхин гладил Элизу, который, распластавшись перед ним вверх брюхом, урчал от ласки, подрагивая лапами.
Здесь Карюхину было хорошо, уютно, спокойно, и в голове ясность стояла. Для него здесь все было населено знакомыми, родными людьми, которые собрались вокруг деда Афони. Вон молодая ель стоит, красуется, вся от корней до вершины в густых ветвях — это тетка его Евлампиевна, которая любит наряжаться в широкие наряды. «Здравствуй, тетушка», — говорил он, и она отвечала ему иногда, пошевелив ветвями, сбросив в подарок молодую шишку. А вот тонкая березка, стремящаяся к небу, будто хочет оторваться от земли, — это мамка его, умершая молодой, не сумевшая состариться. Много тут было жителей деревни, но не было почему-то только Варвары-пухлощекой. Даже здесь она не хотела ему показаться. Ну и правильно, Варварушка, нет меня на белом свете, где я, зачем я, я уже не знаю, Варварушка.
— Элиза, — спрашивал он, — скажи мне, как тебе живется в собачьей шкуре? Что ты знаешь, что понимаешь? Скажи, я тебя жалею или это ты меня жалеешь?
Карюхин поднимал его морду, стараясь, чтобы пес уловил его взгляд, тот лизал его в щеку, но голову не отводил.
Уже легла первая темнота, когда он вернулся в свою берлогу и сразу заснул.
Ему сон приснился. В поздний час, в сумерках, он идет по шоссе, вроде пьяный уже и не пьяный еще, но не в себе какой-то, затуманенный от воспоминаний, потому что только что в мыслях побывал в родной деревне, никого там не встретил, лишь на хоздворе увидел отощавшего Полкана, который прильнул к его ногам, скуля, и Карюхин даже посидел с ним в пустом коровнике, рассказал о своем житье-бытье, а Полкан в ответ скулил и повизгивал, прижимаясь к нему, и Карюхину так стало жалко Полкана и себя, что он тоже поскулил вместе с ним и даже повыл от тоски и безысходности. И вот он шел по шоссе, возвращаясь к себе на свалку с грустной душой и печалью. Его нагнал автобус, полупустой, с незнакомыми людьми, он спросил, куда едет автобус, никто ему не ответил, он еще раз спросил, и снова люди не ответили, сидели как неживые, как куклы, с остекленевшими глазами. Так долго ехали в молчании, без остановок, наконец автобус затормозил, открылись дверцы, водитель сказал: «Конечная остановка. Счастливое кладбище». Карюхин вылез на дорогу, однако за ним никто не пошел, дверцы закрылись, автобус развернулся и поехал обратно. Карюхин узнал место, куда он приехал, это была свалка, вон и сосна в овраге, и домик его…