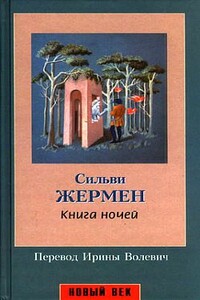Янтарная ночь | страница 63
И месяц там, в вышине, такой тонкий и белый, словно меловая запятая, забытая в необъятности небес, вытертых ветром, чтобы еще лучше подчеркнуть пустоту, забвение и смерть. Пустоту мира, забвение завета, бессмысленную смерть людей.
Месяц там, в вышине над землей, льдистая запятая между живыми и мертвыми. Терновая запятая между убийцами и жертвами — тонкая и подвижная запятая, скользящая от одних к другим, способная обратить одних против других.
3
Дождь лил несколько дней подряд. Мелкий, монотонный. Было начало осени. Птицы начали большой сбор, готовясь к перелету. На электрических проводах вдоль дорог, на деревянных заборах и оградах пастбищ, на коньках крыш, всюду сотнями теснились птицы, совещаясь в пространных щебечущих прениях по поводу скорого отлета. Янтарная Ночь тоже готовился к отъезду. Завтра ему предстояло покинуть Черноземье, сесть в поезд, идущий в Париж. Его чемодан был уже собран. Почти пустой. Он собирался взять с собой так мало — кое-что из одежды, немного белья. Он ничем не владел и не хотел ничем владеть. Он отправлялся навстречу городу, речи, книгам. Навстречу словам. Чтобы вырваться, наконец, из тяжкого молчания земли.
Он сидел на краю своей постели. Смотрел, как опускается вечер, слушал гомон птиц, готовых к отлету, тихое и непрерывное струение дождя. Он не шевелился. Он сидел один в своей комнате, положив сжатые кулаки на колени. Вечерние сумерки медленно затуманивали пространство вокруг него, и предметы один за другим растворялись в сгущавшейся темноте. «Пускай темнота всех вас пожрет! — подумал он. — Пусть эта ночь все тут поглотит и сотрет — вещи, мебель, вплоть до стен моей комнаты. Разве не буду я завтра в новой комнате — чужой, совершенно голой?» Дом был погружен в тишину. Но ферма так обезлюдела — какой же звук мог там раздаться? Его родители умерли, Баладина недавно переселилась к их дяде Таде. Оставалась только Матильда, суровая Матильда, царящая над пустынной фермой со своей увесистой связкой ключей на боку. Ключей от комнат и шкафов. Ключей, отпиравших лишь пустоту и холод. Была еще Роза-Элоиза, обосновавшаяся рядом, в том приземистом крыле фермы, где жил Двубрат, а потом Таде и Ципель.
Но Роза-Элоиза не издавала никакого звука. Она проводила ночи, без конца расчесывая свои волосы. После отъезда Горюнка в Алжир она потеряла сон. Однако каждый вечер облачалась в длинную ночную рубашку из белого полотна, потом усаживалась на низенький табурет, почти вровень с полом, наклонялась вперед, ложилась головой на колени и оставалась так до утра, расчесывая волосы механическими движениями, чтобы обмануть бессонницу, отогнать тревогу. Тревога, впрочем, вовсе не позволяла себя прогнать, она переплеталась с волосами, спутывала их. Горюнок больше не посылал вестей о себе, и это молчание ее пугало. Она чувствовала, что война смертельно ранила его, — не в плоть, но в душу. Что он видел, что делал там? — беспрестанно спрашивала она себя, расчесывая волосы.