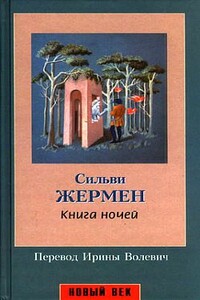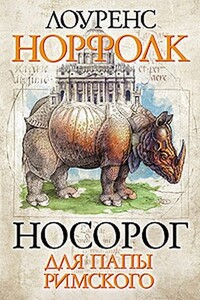Янтарная ночь | страница 36
Шарль-Виктор не стал ни лучше, ни хуже. Он просто потерял голову из-за своей младшей сестренки. Она была для него всем. Мир вдруг обрел лицо, лицо другого человека — который его не предавал. Мир обрел детство и новый вкус игры. Все становилось возможным.
Тогда-то его глаза и приобрели ту восхитительную прозрачность окаменелой смолы цвета меда и бледного золота. Пятно в левом глазу от этого казалась еще ярче, почти пылало. Но в самом взгляде еще таилось столько мрака и ярости, что никому и в голову не пришло дать ему прозвище Янтарный День. Все называли его: Янтарная Ночь.
Баладина была для него всем. И он постарался стать всем для нее. Поскольку мать по-прежнему была во власти своего старшего сына, ужасного синюшного Хорька, поскольку отец, большой барбос, смотрел только на свою жену, двигавшуюся как автомат, и видел только ее, все место подле Баладины доставалось ему — по праву. И он сумел занять это свободное место, основав там свою державу. От этой державы он, впрочем, постарался отогнать всех остальных, ибо его любовь была ревнива. Он держал на расстоянии как своего дядю Таде, так и Ципель, и особенно юного Шломо. Тот не мог этого вынести; постоянно кружил возле малышки, пытаясь подсунуть ей свои улыбки, словно приторные сласти. Янтарная Ночь прозвал его Акула-Проныра, и оказал ему честь, поместив в четвертом иерархическом ряду своих врагов — за братцем Синюшным Хорьком, матерью-предательницей и шелудивым псом-папашей. Он отнес его к одному разряду с древесным сбродом. Особенно следил, чтобы Акула-Проныра и эта колдунья Ципель не пели Баладине свои таинственные песни, вызывавшие тошноту от одного только слушанья. И речи быть не могло, чтобы малышку убаюкивали этими темными и красивыми до слез песнями. Речь, слова, звуки — это будет принадлежать только ему, и только он один научит им ее — на свой лад. Он сделает ее своей — силою звуков и слов. Магией слов.
Но Шломо не заботила ненависть Шарля-Виктора по прозванью Янтарная Ночь, который был младше него почти на шесть лет. В свое время уже старший, Жан-Батист, проявлял к нему смутную враждебность. «Не надо на них сердиться, — частенько говорила ему Ципель. — У Жан-Батиста и Шарля-Виктора ревнивые сердца, такие уж они уродились. Впрочем, я думаю, что все Пеньели такие. Страсть в них так сильна, что они от этого заболевают. Ревность — это болезнь. «Что же это за болезнь, — спрашивал тогда обеспокоенный Шломо. — Тяжелая? Можно от нее умереть?» — «Порой да. Думаю, что да…» — «Но, — настаивал Шломо, — раз в их в семье эта болезнь у всех, ты думаешь, Таде тоже ревнив?» — «Не знаю!» — отвечала резко Ципель, которую этот вопрос смущал, она сама не знала почему. Упрямый Шломо продолжал донимать сестру, не замечая, что та краснеет. «Не надо бы ему быть ревнивым, раз ты говоришь, что от этого можно умереть!» — «Кого ему ревновать, да и зачем? — возражала она, пожимая плечами. — Единственное, что любит Таде, это книги и звезды. А звезды не ревнуют». — «Почему бы и нет? — настаивал ее брат. — Если он и в самом деле очень сильно любит свои звезды, то, может, станет от этого ревнивым и больным…» — «О! Как ты мне надоел со своими глупостями!» — говорила она, чтобы покончить с этим, и меняла тему разговора.