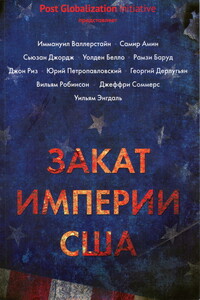Литературная Газета, 6419 (№ 24/2013) | страница 21
– Например, за что можно уважать провинциального писателя (если он взаправду писатель, а не притворяется)? За то, что он без особой корысти, обречённый в маргиналы, сумел стать писателем, поднялся над бытовой графоманией среды. За то, что он элемент хребта, который держит Россию, в котором учитель, врач, хлебороб, рабочий; тем более что провинциальный писатель по совместительству ещё и один из них. За то, что пытается зажигать хотя бы лучинки над тёмными, неосвещаемыми краями, над которыми не всходит московское солнце. За то, что, работая на износ, ухитряется содержать семью и даже получать от неё (ох, не всегда!) моральную поддержку. За то, что он должен служить где-то за смешные деньги, потом подрабатывать, и поди найди её, подработку, в глубинке (жене нужны сапоги, ребёнку – пуховик и т.д.), а уж потом заниматься любимым делом – воспарять, «мыслить и страдать». За то, что он не помнит, когда отдыхал. За то, что ухитряется издавать, заведомо убыточно, книги за свой счёт и потом годами, кряхтя, отдаёт занятые деньги. За то, что выполняет свой долг, хотя любой сторонний человек напоминает ему о его бездарности и законах рынка…
: Empty data received from address
Empty data received from address [ http://www.lgz.ru/article/-24-6419-19-06-2013/don-i-klon/ ].
Здесь русский дух
За три столетия лавра стала неотъемлемой частью Санкт-Петербурга, его отчётливым градообразующим элементом. Как многие монастыри и православные храмы, она пережила и осквернение, и поругание, и возрождение.
Можно только догадываться, почему Пётр I повелел заложить монастырь не в месте исторической победы в 1240 г. войск молодого князя Александра над шведами (при впадении Ижоры в Неву), а на окраине строящегося Санкт-Петербурга, в самом конце невской перспективы. Слегка нарушив точность географическую, Пётр I вскоре восстановил справедливость историко-духовного порядка: в 1724 г., через 500 с небольшим лет после Невской битвы, мощи благоверного князя Александра Невского были доставлены из собора во Владимире и под пушечный салют и звон колоколов внесены в Александро-Невский монастырь.
Невская обитель, по замыслу Петра, должна была стать "надеждой архиерейства", своеобразной кузницей кадров, где готовятся лучшие духовные силы Российской империи.
Что воплотилось в жизнь из замыслов Петра Великого, пусть каждый судит сам. Но отметим, что именно за подготовку «цвета архиерейства» Невский монастырь по указу императора Павла I стал Александро-Невской лаврой. Тогда же существовавшая в монастыре Славяно-греко-латинская академия получила статус Духовной академии.