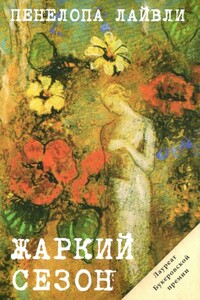Лунный тигр | страница 28
Мы открываем рот и произносим слова, о происхождении которых даже не догадываемся. Мы ходячие лексиконы. Одно пустячное замечание в праздной болтовне способствует хранению наследия римлян, викингов и англосаксов; в наших головах настоящая кунсткамера, что ни день мы отдаем дань памяти людям, о которых никогда не слыхали. Но мы еще красноречивее, наш язык — язык книг, которых мы никогда не читали. Шекспир и Королевская Библия[49] обнаруживают себя в супермаркетах и автобусах, звучат по радио и телевидению. Мне это кажется чудом, которому я не перестаю удивляться. Удивляться тому, что слова такие стойкие, их разносит ветер, они зимуют под снегом и вновь пробуждаются, укрываются в самых неожиданных местах — и живут, живут, живут,
Я помню хмельное возбуждение, которое испытывала в детстве. Сидя в церкви, я катала слова во рту, как жемчужины, — скинии, притчи и фарисеи, прегрешение, Вавилон и Завет. Разучивала наизусть и выводила нараспев: «Порсена, царь этрусков,/ Клянется, что отныне/ Угроз и притеснений/ Не будет знать Тарквиний».[50] Втайне ликовала, что Гордон не знает, как пишется слово «антидизэстеблишментарианизм» — самое длинное в словаре. Я рифмовала, богохульствовала и наслаждалась. Я коллекционировала имена звезд и растений: Арктур, Орион и Бетельгейзе, донник, дымянка, льнянка полевая. И этому не было конца, слова были точно песчинки на морском берегу, точно листья огромного ясеня, что рос за окном моей спальни, — неисчислимые, непобедимые. «А есть такой человек, кто знает все слова на свете? — спрашивала я свою мать. — Ну хоть один?» «Очень умные, наверное, знают», — неопределенно отвечала она.
Когда Лайза была ребенком, мне интереснее всего было наблюдать, как она сражается с языком. Я не была хорошей матерью — во всех общепринятых смыслах. В младенцах мне чудилось что-то слегка отталкивающее, маленькие дети были надоедливыми и вздорными. Когда Лайза начала говорить, я слушала ее. Я исправляла бессмыслицу, которую прививали ей бабушки. «Собака, — сказала я. — Лошадь. Кошка. Нет никаких гав-гав и иго-го». — «Лошадь», — задумчиво повторила Лайза, пробуя слово на вкус. Впервые мы с ней общались. «А иго-го нет?» — спросила она тревожно. «Нет, — подтвердила я. — Умница». И Лайза сделала один шаг в будущее.
Дети не такие, как мы. Они сами по себе — непостижимые, недоступные. Они живут не в нашем мире, но в том, что мы утратили и никогда не обретем снова. Мы не помним детство — мы представляем его. Мы разыскиваем его под слоями мохнатой пыли, нашариваем истлевшие лохмотья того, что, как нам кажется, было нашим детством. И в то же время обитатели этого мира живут среди нас, словно аборигены, словно минойцы,