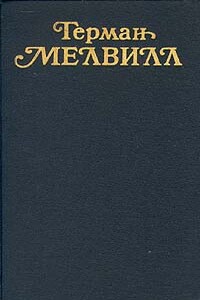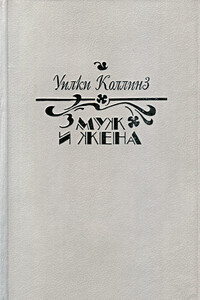Прыжок за борт | страница 42
— Должно быть, это ужасно неприятно, — пробормотал я, смущенный.
— Это адская пытка! — воскликнул он глухо.
Его движение и эти слова заставили двух франтоватых туристов, сидевших за соседним столиком, тревожно оторваться от пудинга. Я встал, и мы вышли на галерею, где нас ждал кофе и сигары.
На маленьких восьмиугольных столиках горели свечи под стеклянными колпаками; вокруг стояли удобные плетеные кресла; столики отделялись один от другого какими-то кустами с жесткими листьями; между колоннами, на которые падал красный отблеск света из высоких окон, мерцающая и мрачная ночь, казалось, спустилась великолепным занавесом. Огни судов мерцали вдали, словно заходящие звезды, а холмы по ту сторону рейда походили на закругленные черные массы застывших грозовых туч.
— Я не мог удрать, — начал Джим, — шкипер удрал, так ему и полагалось. А я не мог и не хотел. Все они выпутались так или иначе, но для меня это не годилось.
Я слушал с напряженным вниманием, не смея пошевельнуться; я хотел знать, но и теперь я не знаю, я могу только догадываться. Он был доверчивым, но сдержанным, как будто убеждение в какой-то внутренней правоте мешало истине сорваться с уст. Прежде всего он заявил — тон словно подтверждал его бессилие перескочить через двадцатифутовую стену, — что никогда уже не вернется домой; это заявление вызвало в моей памяти слова Брайерли: «Если не ошибаюсь, этот старик пастор в Эссексе души не чает в своем сыне-моряке».
Не могу вам сказать, знал ли Джим о том, что он был любимцем отца, но тон, каким он отзывался «о своем папе», давал мне понять, что старый деревенский пастор — самый прекрасный человек из всех, кто когда-либо был обременен заботами о большой семье. Хотя сказано этого и не было, но подразумевалось, не оставляя места сомнениям, а искренность Джима умиляла, подчеркивая, что вся история затрагивает и тех, кто живет там, — очень далеко.
— Теперь он уже знает обо всем из газет, — сказал Джим. — Я никогда не смогу встретиться с бедным стариком.
Я не смел поднять глаз, пока он не добавил:
— Никогда я не смогу объяснить. Он бы не понял.
Тут я посмотрел на него. Он задумчиво курил, затем, немного спустя, встрепенулся и заговорил снова. Он выразил желание, чтобы я не смешивал его с его сообщниками в… преступлении. Он не из их компании; он совсем другой породы. Я не отрицал. Мне отнюдь не хотелось во имя бесплодной истины лишать его хотя бы малой частицы спасительной милости. Я не знал, до какой степени он сам в это верит. Я не знал, какую он вел игру — если вообще это была игра, — думаю, он этого не знал. Я убежден, что ни один человек не может вполне понять собственных своих уловок, к каким прибегает, чтобы спастись от грозной тени самопознания. Я не издал ни звука, пока он размышлял о том, что ему предпринимать, когда кончится «этот дурацкий суд».