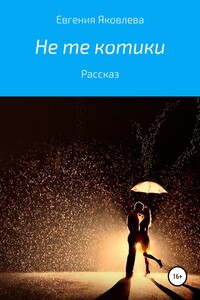До и во время | страница 32
Свой хороший день Кочин начинал с того, что расшторивал окно; занавес, закрывающий сцену, убирался, но света в комнате не прибавлялось. Дело в том, что все стекло, насколько я сейчас помню, кроме форточки, было заклеено тонкими — на каждой помещалось лишь несколько строк текста — полосами исписанной бумаги. Из-за них в комнате даже в солнечный день был полумрак и горела электрическая лампочка. Мне это нравилось: я люблю электрический свет. По словам Кочина, вместе полосы составляют автобиографический роман, который в силу бедности его жизни событиями и, соответственно, причинно-следственными связями состоит исключительно из отдельных мыслей и зарисовок. Мысли же приходят в голову вне системы и логики, во всяком случае по внешности; найти их каждый раз заново — и есть его ежедневная работа писателя. Логика, конечно же, наличествует, потому что мысли рождены им, но она внутри, а кроме того, непостоянна, текуча и изменчива.
На практике его представление о писательском труде воплощалось следующим образом. В день, когда не было депрессии, Кочин все утро рисовал подробную схему развития романа: то есть как, в какой последовательности читать сегодня наклеенные на окне строчки; делалось это обычно красным карандашом и очень напоминало карту кровообращения. Очевидно, такая ассоциация устраивала Кочина, потому что сам он любил повторять, что роман — живое существо, которое, как человек, живет и дышит, растет и развивается. Потом, когда схема бывала закончена и к нему кто-нибудь приходил, он ловко взбирался на прислоненный к подоконнику стол и, ходя по нему, приседая, вставая на цыпочки, садясь, читал в соответствии с планом написанное. Зрелище было занятное до крайности. Слушатель Кочину был необходим, ему обязательно нужно было видеть чьи-то глаза, и он, хотя читал быстро и без запинки, успевал все время оглядываться; к счастью, он был неизбалован, готов читать любому, может быть, кроме сестры, во всяком случае, я — пяти-шестилетний ребенок — его вполне устраивал.
Зачем он наклеивает то, что пишет, на окно, Кочин объяснял неоднократно, но каждый раз иначе; впрочем, ни один из его ответов другому не противоречил. Началось это, кажется, во время войны, когда стекла, чтобы они при бомбежке не вылетели, заклеивали крест-накрест бумажными лентами. Кочин тогда разрешил сестре изрезать несколько страниц романа и стал утверждать, что его писания не дают миру разрушиться и распасться на части. Еще он говорил, что так теплее, его роман греет их с сестрой и не дает замерзнуть; что роман должен прокалиться на солнце; что он должен быть прозрачен и, раз в комнате все время горит электричество, до конца работы еще далеко. Говорил он и то, что не может держать его в столе — живое нельзя лишать света, что вообще роман, как растение, живет за счет фотосинтеза.