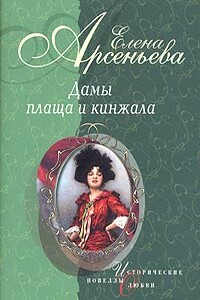Ида Верде, которой нет | страница 90
Лозинский снова перебрал фотографии — может быть, силуэт Линн Витвуд мелькнет где-нибудь еще? Да, вот она. Стоит под высохшим деревом в отдалении от группы, которая весело позирует фотографу. Смотрит на коллег с некоторой дистанции. Взгляд изучающий, даже сверлящий. Лозинский вспомнил, как Студенкин описывал взгляд «крали»: «… еще и проворачивает ножом в животе». Теперь черно-белые картоны казались ему мрачными. Они, очевидно, содержали в себе тайну, боль, страх. Что же на самом деле могло так напугать эту Витвуд, что она отважилась на убийства? Он отложил карточку в сторону и заметил еще одну, где Витвуд пыталась выбежать из кадра.
Да. Никуда не деться. Очень душно у них тут.
Лозинский снял пиджак, закатал рукава рубашки.
Из-за стены раздались звуки — рухнуло и вдребезги разбилось что-то стеклянное, наверное, лампа, потом с глухим стуком упал с десяток книг, раздались голоса. Замигал свет.
Лозинский, не двигаясь, смотрел, как в мигающем освещении, кажется, оживают фигуры на фотографических картонах. Ну, это уже чудеса для Пальмина! Сейчас фотографический верблюд начнет икать, раздастся алчный крик муэдзина, от которого там, в мусульманском мире, всегда становится не по себе, будто кричит неведомая птица, верховодящая в саду Создателя, и, наконец, он услышит шепот Ведерниковой.
Он вспомнил, что ее голос недавно ему снился — да, именно голос, который он хотел гладить и целовать, словно это была дорогая старинная ткань, а не результат трепетания связок в горле.
Стоп! Для фильмы ее голос не нужен. А движения ее — двусмысленны, обманчивы!
Что она творит! Найти ее! Найти и сейчас же подписать контракт! На всю серию! На пять лет! На десять!
Через несколько минут в канцелярии — расписной потолок, кресла с ножками в виде львиных лап — он наблюдал за тем, как старательный архивный юноша пером выводит на желтоватой бумаге адрес профессора Ведерникова, к которому кинорежиссер Лозинский намерен обратиться с профессиональными вопросами.
«Нет, дело не терпит отлагательств… до понедельника ждать решительно невозможно».
Помахивая перед собой листком — не стал дожидаться, пока чернила высохнут, — он вышел на улицу.
Шел снег, скорее даже град. Мелкой колкой крупой больно ударял по лицу, стучал по бумаге. Буквы стали расползаться. Смешно, если сейчас растает номер дома. Улицу он запомнил — Сретенский бульвар. В затылке, в самом темечке, стучало. Звучал голос отца, военного хирурга, который когда-то давно, когда сын оканчивал гимназию, вдруг однажды вечером в своем кабинете взялся объяснять ему, что никогда ничего нельзя делать под влиянием настроения. Нельзя дать эмоциям командовать — это губительный путь. Не следует искушать судьбу.