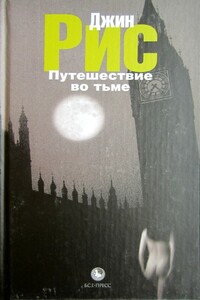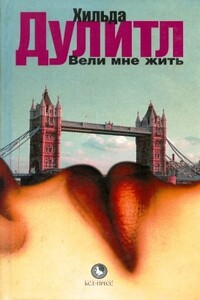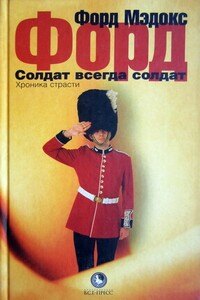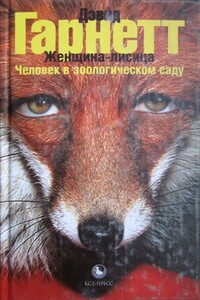Южный ветер | страница 22
Это был высохший, почти измождённый человек с яркими глазами и короткими усиками, одевавшийся скромно, изящный, собранный, благовоспитанный, со сдержанными манерами. Жил он уединённо, в домике о двух комнатах, стоявшем где-то среди виноградников.
Он прекрасно знал классическую литературу, хотя никогда не питал особой приязни к греческому языку. Он считал его «легковесным», нервным и чувственным, открывавшим слишком много перспектив, психологических и социальных, среди которых его уравновешенный разум не мог расположиться с достаточным удобством. Одни частицы чего стоят — есть нечто двусмысленное, нечто почти неприличное в их весёлой податливости, в готовности, с которой они позволяют употреблять себя неподобающим образом. То ли дело латынь! Уже в приготовительной школе, где он был известен как зубрила чистой воды, Эймза охватила нездоровая страсть к этому языку; он полюбил его холодные лапидарные конструкции, и пока прочие мальчики играли в футбол или крокет, этот тощий парнишка, один-одинёшенек, упоённо возился с записной книжкой, терзая чувствительный английский попытками перевода неподатливых и бесцветных латинских периодов или составляя, даже без помощи «Gradus»'а,[5] никчёмные словесные мозаики, известные под названием латинских стихов.
— Интересная штука, ничуть не хуже алгебры, — говорил он с таким видом, словно давал хорошую рекомендацию.
Добрый классный наставник качал головой и обеспокоенно спрашивал, хорошо ли он себя чувствует, не терзают ли его какие-либо тайные тревоги.
— О нет, сэр, — со странным смешком отвечал он в подобных случаях. — Спасибо, сэр. Но прошу вас, сэр! Не могли бы вы сказать мне действительно ли pecunia[6] происходит от pecus?[7] Потому что Адамс-младший (ещё один зубрила) утверждает, что это не так.
Позже, обучаясь в университете, он прибегал к английскому из соображений удобства, — чтобы преподавателям и главам колледжей легче было его понимать. Но думал он на латыни и сны видел латинские.
Такой человек, появившись на Непенте без гроша в кармане, мог протянуть один, от силы два бездеятельных месяца, а затем перебрался бы в Клуб и сгинул там к чертям собачьим. Всё та же латынь его и спасла. Он принялся за изучение первых местных авторов, часто писавших на этом языке. Его как раз начало подташнивать от иезуитской гладкости и сахариновых уподоблений таких писателей, как Джианнеттасио, когда в руки ему попали «Древности». Испытанное им ощущение походило на то, какое оставляет глоток густого южного вина после курса лечения ячменным отваром. Это была достойная чтения, сочная, мускулистая, образная, элегантная, мужественная латынь. Гибкая и одновременно сжатая. Латынь как раз по его вкусу: призывный крик, донёсшийся через века!