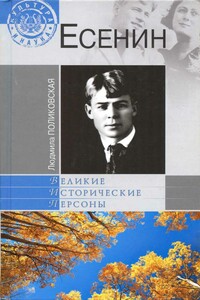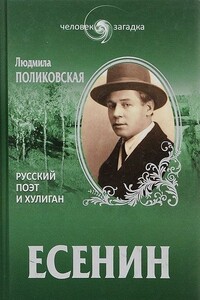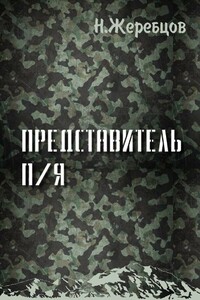Злой рок Марины Цветаевой. «Живая душа в мертвой петле…» | страница 2
Она пишет и самому Рильке – тоже уже после его смерти (точнее, продолжает переписку с ним). «Не хочу перечитывать твоих писем, а то я захочу к тебе – захочу туда, – а я не смею хотеть».
Не смею хотеть – мысли о самоубийстве Цветаева оставила в ранней юности. (Они вернутся к ней только после приезда в СССР и в предчувствии трагедий, еще более страшных, чем те, которые ей довелось пережить.) У нее есть долг перед близкими, есть дело – она пока еще не все написала . И она осуждает тех, кто, как Маяковский или Есенин, самовольно ушли из жизни, оставшись в долгу «перед всем, о чем не успел написать». («Негоже, Сережа! / – Негоже, Володя!»).
Самоубийство Цветаевой не было запрограммировано ни ее психикой, ни особенностями ее таланта. И жизненных сил ей было не занимать.
Не боги, а люди виноваты в том, что сказанное о себе метафорически в «чумном» 1919 г. – «живая душа в мертвой петле» – стало жуткой реальностью в 1941-м.
«В молчаньи твоего ухода / Упрек невысказанный есть», – писал Борис Пастернак в стихотворении «Памяти Марины Цветаевой». Кому же адресован этот упрек? Не мужу. Хотя, если бы не его служба в ОГПУ и связанное с этим ее – почти насильственное – возвращение в СССР… Но Цветаева была мудра – там, где другие видели ренегатство, она прозрела трагедию. И уж, конечно, не сыну, который единственный из всей семьи был с ней в ее последние дни. (Хотя, конечно, он, как большинство подростков, не всегда и недостаточно был чуток к матери.) И не советским писателям, которые в виде большого одолжения обещали выхлопотать ей должность судомойки. По большому счету – даже и не советской власти, погубившей ее мужа и дочь. Этот молчаливый упрек адресован