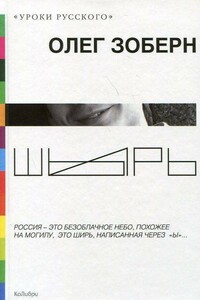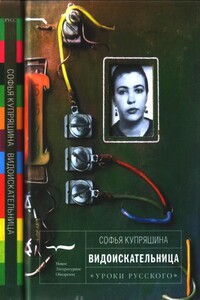Пепел красной коровы | страница 61
Теплая волна ударяет в лицо. После спертого помещения нагретый за день город кажется прекрасным. Злата зачарованно провожает взглядом силуэт удаляющегося мужчины, углы зданий оживают в сумерках, приобретают загадочность и благородство очертаний, со стороны моря поднимается легкий ветерок. Злата садится в подъезжающий автобус, в глазах отражение пляшущих огней, на губах — улыбка. Злата едет домой.
Глиняный петушок
«Я подарю тебе глиняную свистульку, — а ты — отдашь мне свое сердце…»
Цыганский фольклор
Когда в трансильванских лесах зацветает орешник и тянет дымком, а под ногами хрустит прошлогодняя еловая ветка, а в садах наливаются огнем тонкокожие яблоки, — земля просыпается от зимней спячки, и Грегор Прохаску, сверкая золотым зубом, прикладывает руки к простреленной груди, и достает из штанин губную гармошку, а потом едет в корчму и до утра отбивает здоровой ногой хору, и сыплет монетами, выуженными из стеклянной банки с паутиной на дне, — в разношенные лифы заезжих примадонн, и обклеивает их потные спины цветными бумажками, и потом гоняет по двору за собственной тенью, размахивая костылем, припадая на одну ногу, и плачет на колченогом табурете, раскачиваясь из стороны в сторону, — где моя молодость, Дын-ница, где? — и дергает себя за свалявшийся желтый чуб, а шея его сзади изрезана глубокими морщинами, — как кора дерева, срубленного по весне.
А над Букурешти огромные звезды, что твои собаки, прожигают насквозь, а за Букурешти леса дремучие, — родился я в районе Цветочного базара, у своей матери, мамы Зары, говорят, в Риме ее видели; когда-нибудь я попаду в Рим, и найду ее, если повезет, — и она не узнает меня, только скажет — какой ты красивый — настоящий цыган, а я засмеюсь, и обниму ее, и куплю ей новые туфли и светлый плащ, потому что мама моя Королева, — так мне Дынница сказала, а она никогда не врет, — старому человеку незачем врать. А Дыннице я тоже подарю — новые зубы, золотые, как у Грегора Прохаску, и будет она улыбаться даже во сне.
Я куплю чемодан и сяду в поезд, у меня будет кожаный чемодан и белая шляпа, а в дорогу я возьму яблочек винных и острой брынзы и так доеду до самого Рима, как большой человек, только сначала найду свое сердце, потому что без сердца кому ты нужен в большом городе?
Я хохочу и выбегаю под косой дождь, и бабкины леи жгут мне ляжку и грудь, челка налипает на лоб, я подстриг ее тупыми ножницами и вычистил ногти, а потом выстриг из рубахи сердце — алого цвета — и подарил той девке, так как узнал ее тут же, по махровой родинке на спине, и по прикусу от острых белых зубов по сей день рука ноет; а сердце она забрала себе, — разодрала лоскуток на кумачовые нити и спрятала на груди, а потом опрокинула стакан цуйки, и сплясала хору на столе, и свела всех с ума, — стуком своих косточек, трением своих лопаток и луженой глоткой, а потом она схватила мою руку и прокусила ее до крови и сердце мое похитила, а взамен подарила глиняного петушка-свистульку, и я ушел в ночь, пошатываясь, с сухими как уголь глазами, отыскивая в витринах золотое платье для моей невесты и белоснежный носовой платок, который я брошу к ее ногам, но в карманах у меня было пусто, а в груди черная дыра, а в небе острый как кинжал полумесяц, а на губах терпкий вкус ее крови. Я дул в глиняную свистульку, а люди смеялись над глупым цыганом, у которого злая девка украла сердце и порвала его, а потом подожгла и босыми ногами станцевала на углях, скалясь красным ртом, а потом пропала, говорят, с мадьярами, — никто ее больше не видел.