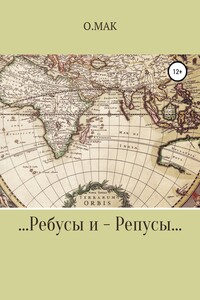Курочка Ряба, или Золотое знамение | страница 29
В раскрытом окне «Опорного пункта» стоял, смотрел на машину, провожая ее прицепчивым, запоминающим взглядом, здоровенный детина-милиционер. Здешний участковый, кажется. Надежду Игнатьевну брезгливо передернуло от этого его взгляда. Завистливый цепной пес! Она не любила такую вот, облаченную малой властью, мелкую шушеру. И понимала, что без шушеры этой нельзя, она опора и крепость всего порядка, фундамент его, барахтается в самой грязи, чтобы наверху было чисто, — понимала, но не любила, нет, и не могла с собой ничего поделать. Такой завистью веяло от этой шушеры, такой нескрываемой жаждой перебраться из фундамента хотя бы на первый этаж! Если вдруг что, какая-нибудь встряска здания — они первые и полезут наверх, с этажа на этаж, с этажа на этаж, да не просто полезут, не потесниться потребуют, а из окон будут выбрасывать, за руки да за ноги — и вон… Ох не любила Надежда Игнатьевна эту шушеру, ох не любила! Что ему, этому амбалу в форме, так смотреть на ее машину? Тоже хочется эдак, с шофером и вольно откинувшись на заднем сидении?
Славик подвернул к воротам родительского дома и заглушил мотор. Надежда Игнатьевна дотянулась рукой до его уха и легонько помяла пальцами. Упругий хрящ уха напоминал ей кое о чем другом.
— Жди, я скоро, — сказала она Славику, отпуская его ухо и открывая дверцу.
Как-то так неизменно выходило у Надежды Игнатьевны последние годы, что все ее водители оказывались у нее в постели. Она уже знала за собой это и старалась, чтобы водителей к ней направляли помоложе и, еще лучше, неженатых. Правда, такие отношения с водителем требовали особого умения держать дистанцию, не позволять ему преступать определенную границу, какое-то время это удавалось, но потом они, все до одного, утрачивали чувство меры, начинали вести себя так, будто имели на нее какие-то права, и приходилось просить соответствующие службы сменить их. Славик пока границу не нарушал, и заменять его нужды не имелось.
Мать с отцом, увидела Надежда Игнатьевна, выходя из машины, ждали ее у кухонного окна, так и прилипли носами к стеклу. Темнота дореволюционная, проговорилось в Надежде Игнатьевне. Хотя родители ее, что мать, что отец, не успели до революции даже родиться, а сделали это пусть и вскоре, но уже после.
Дверь открыла мать. И уж так счастливо улыбалась, прямо противно было.
— Ну вот, ну хорошо! Молодец, что смогла все-таки, вот спасибо!
Отец стоял тут же, у порога, и тоже расплывался в улыбке, и светился радостью от ее приезда насквозь.