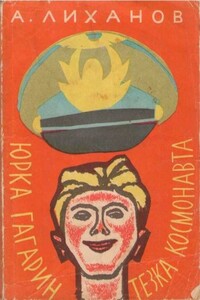Дробь | страница 18
Тем временем, моя родная альма–матер появилась в поле зрения. Провинциальный университет рассекал небеса своими пятью этажами, словно Барад–дур, разве что ока Саурона недоставало. Проскочив с десяток ступеней, я оказался на крыльце, забитом курящими студентами и преподавателями, облако смога окутывало центральный вход в цитадель знаний.
Я выгреб из карманов все автобусные билетики и сбросил в ближайшую урну, тем самым обозначив новую ступень в своем восхождении к свободе. Я очистил карманы от мусора, словно Тристан Тцара, разрушающий выдвижные ящики сознания.
Внутри меня встретила волна университетской вони: букет из запахов студенческого тунеядства, смрада научных степеней и докторских званий, тяжелый дух бесполезных знаний пропитывал каждый квадратный микрометр этих коридоров. А кафедра была просто насквозь пропитана духом бюрократии: маленькие столики для каждого преподавателя — все это напоминало загоны для одомашненного скота. Загоны для элитного скота, ученного скота, скота который должен обучать еще не зрелое, неопытное поголовье диковатых молодых зверят, обучать правилам интеллигентного, элитного, образованного скота. Скотобаза, инкубатор будущей прослойки дешевых, плохо квалифицированных специалистов и элитарных, высокооплачиваемых бездарей.
Эти морщинистые лбы и глаза в пелене старческих доктрин всегда внушали мне ужас, граничащий с отвращением, шайка бездельников, сидящих на государственном бюджете, аромат духов «красный октябрь», нелепые медные брошки на велюровых блузках с ватными плечами, все это воняло совком. Именно эти люди держали в своих ссохшихся ручонках всю энергию молодости, именно эти люди топили молодые умы в сливных бачках своих консервативных учений.
Однажды мне в голову пришла довольно занятная и сюрреалистичная фантазия. Мне привиделось, будто я стоял на старом стуле под красное дерево, этакая постсоветская табуретка, стоял я в своей комнате, свет в ней был приглушен, что придавало дополнительного драматизма всей ситуации. Лишь на фоне работал старый допотопный телевизор, с экрана которого вещали дикторы, вещали о захватывающих вещах, о новых успехах нашей мощной страны в аграрном, экономическом, социальном секторе, о новых успешных реформах, о фестивалях игры на ложках, о визитах одних чиновников к другим чиновникам. Дикторы вещали о диктаторах. Президенты и премьер–министры освещали комнату своими улыбками с телеэкранов. А я стоял на табуретке, продев шею в петлю из длинного usb провода. А передо мной в уютных креслах сидели представителя моей кафедры, они расселись в своих самых лучших платьях, купленных в ЦУМЕ еще при Брежневе, в своих самых лучших брошках из янтаря и малахита в обрамлении из золота. С надменным пафосом они глядели на меня и делали пометки. А я улыбался им старательно, учтиво, пресмыкаясь и демонстрируя весь свой талант лизоблюда, лицемера и скалозуба. На столах перед ними лежала моя предсмертная записка, распечатанная в нескольких экземплярах для каждого представителя комиссии. А потом я спрыгнул и повис. Повис в петле, покраснел и задыхался, бился в предсмертной агонии, пытался схватить еще глоточек воздуха, а жюри переговаривались, перешептывались, кто–то кивал, кто–то наоборот качал головой в недовольстве. Мой научный руководитель делал пометки в предсмертной записке, указывая на излишне публицистический стиль, неправильно построенные и не согласованные предложения, незаконченные абзацы и отсутствие ссылок на первоисточники. Мое тело обмякло и повисло в петле, а жюри скучковалось, вынося окончательный вердикт, они тыкали кончиками карандашей и ручек в сторону моего болтающегося в петле трупа и что–то неспешно обсуждали, скептично поглядывая на предсмертную записку. Затем заведующая кафедрой открыла свой журнальчик, и в графе рядом с моей фамилией нарисовала цифру 4. А в телевизоре премьер–министр рассказывал о введении инноваций в социальную сферу, модернизации ведомственного взаимодействия и развитии оборонного комплекса.