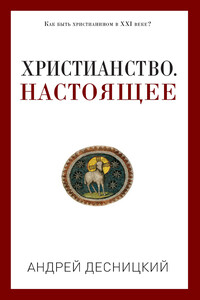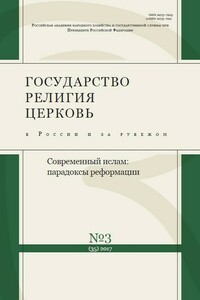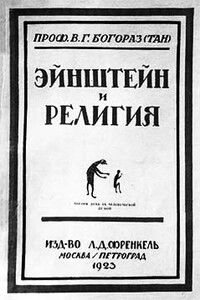Введение в библейскую экзегетику | страница 94
В любом случае, форма произведения может пролить свет на его характер, происхождение и место в культурном контексте эпохи. Основной метод критики формы состоит в сравнении сходных меж собой текстов, чтобы определить специфические черты определенного типа литературных произведений и затем предложить объяснение этих черт. Такая работа тесным образом связана с определением жизненной ситуации (Sitz im Leben)[91], в которой было произнесено или написано то или иное высказывание, создан тот или иной текст — ведь эта ситуация в значительной мере и определяет его смысл.
Возьмем, к примеру, историю о рождении Моисея (Исх 2:1-10). Одни исследователи относят ее к Яхвисту[92], другие к Элохисту[93] и, наверное, спор между этими двумя точками зрения принципиально неразрешим. Но можно обратить внимание на другое обстоятельство: сама форма рассказа о чудесном спасении брошенного ребенка, которому суждено великое будущее, была хорошо известна на древнем Ближнем Востоке и в греко-римской античности[94]. Откуда бы ни происходила эта история, составитель включил ее в конечный текст книги Исход неслучайно, он таким образом создавал у читателя определенные ожидания, стремился сообщить ему нечто принципиально важное о грядущей роли Моисея.
Особенно значимыми оказались результаты работы М. Дибелиуса и Р. Бультмана над текстами Евангелий. Согласно их теории, евангелисты «являются авторами в самой малой степени. В первую очередь они — собиратели, орудия передачи традиции или предания, редакторы»[95]. Следовательно, весь текст Евангелий разделяется на небольшие перикопы (законченные отрывки), которые могли иметь вполне самостоятельное происхождение как небольшие рассказы о Христе, Его поступках и изречениях. Изначально эти рассказы передавались изустно, звучали в разных местах по определенным новодам, и лишь позднее составили единый текст.
Выделяя особо повествование о страстях Христа, Дибелиус находит в остальном евангельском материале пять основных жанровых форм:
♦ парадигмы — короткие эпизоды, завершающиеся яркими изречениями Христа (напр., Мк 3:31-35); ♦ истории — подробные рассказы о чудесах (Мк 5:1-20); ♦ жития — повествования о жизни Христа и святых (Лк 2:41-49); ♦ мифы — рассказы о вмешательстве сверхъестественного в нашу жизнь (Дибелиус относит сюда всего три рассказа: о крещении, искушении в пустыне и преображении Христа); ♦ призывы — учительные проповеди (Мф 5:44-48).
В результате такого подхода возникло стремление «демифологизировать» текст, упрощенно говоря, привести древние формы в соответствие с ожиданиями современного читателя (подробнее об этой проблеме см. раздел 2.4.1.2.). Демифологизация — весьма спорная идея, но и без нее можно сказать, что при очевидной правильности основного посыла (Евангелия содержат разнородный материал, который некоторое время существовал в устной традиции, не будучи зафиксирован на письме) конкретная классификация Дибелиуса достаточно субъективна. Действительно, к ней предлагались разного рода поправки и другие версии.