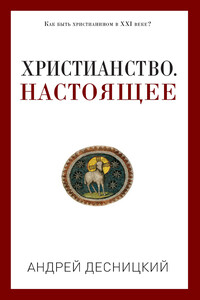Введение в библейскую экзегетику | страница 123
Перенос акцента на читательское восприятие, в частности, означает, что читатель вправе отвергнуть те элементы текста, которые он находит неприемлемыми, например, слишком патриархальными. Это не значит, что сами тексты плохи, но это значит, что современный читатель пропускает их через фильтр своего восприятия. Все становится относительным, все, как в физике Эйнштейна, начинает зависеть от позиции наблюдателя. Ведь, согласно В. Изеру[147], на трудах которого во многом строится анализ читательского восприятия, любые тексты по определению не закончены, они изобилуют пропусками и неясностями, которые читатель заполняет самостоятельно. Еще один сторонник такого подхода, Дж.Стаут[148], предлагает вовсе отказаться от понятия «значение текста» и заниматься лишь таким его пониманием, которое удовлетворяет запросам и интересам читателя.
Но есть ли предел у такой вольности? Если действительно удалить из текста автора и позволить тексту значить абсолютно все, что угодно читателю, это будет уже явная эйсегеза (см. раздел 1.1.2.), а проще говоря, насилие над текстом.
Конечно, пределы могут быть поставлены и при таком подходе. П. Рикер утверждает: «Видимо, мы долясны сказать, что текст обладает ограниченным смысловым пространством: в нем больше одной возможной интерпретации, но, с другой стороны, и не бесконечное их количество»[149]. А кто тогда определяет эти рамки? С. Фиш отмечает, что это «интерпретационные сообщества»[150]: каждый читатель принадлежит к некоторому сообществу, которое трактует Библию, исходя из каких-то принятых в нем принципов и процедур. Кроме того, следует внимательно оглядываться на то общество, в котором был написан текст: автор обращался к конкретным людям, разделявшим с ним многие представления о мире, и без учета этих представлений мы не будем в состоянии сколько-нибудь адекватно понять текст.
В какой-то мере это согласуется и с традиционным подходом: собственно, Церковь и есть такое интерпретационное сообщество, которое изучает Писание, исходя из своих традиций и своего богословия. Правда, при таком подходе подобных сообществ оказывается много, и ни одно не имеет безусловного приоритета. По сути, каждый читатель решает сам, к кому примкнуть — или, может быть, основать собственную традицию?