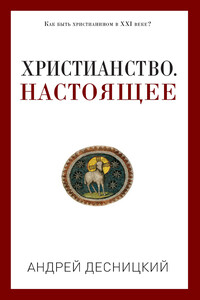Введение в библейскую экзегетику | страница 109
Этот подход, безусловно, продуктивен в том отношении, что библейский мифологический язык может и должен быть объектом изучения, при котором будет учитываться его особая природа. Однако и вопросов здесь возникает тоже немало. Больше всего критики вызывает радикальное разделение исторического и керигматического начал: граница неизбежно проводится субъективно, и демифологизация, как отмечал А. Мень[110], выливается в «декеригматизацию», в отказ от той самой вести, которую демифологизация должна была бы донести до современного читателя. В самом деле, последовательная демифологизация не должна оставить в тексте ничего, что не соответствует современному рационалистическому взгляду — но тогда в нем не останется места ни поэзии, ни даже сколько- нибудь высоким абстракциям. Легко сказать, что под демонами и ангелами имеются в виду душевные расстройства или внутренний голос, но когда, например, Павел говорит о «престолах, господствах, начальствах и властях» (Кол 1:16), это уже непереводимо на язык психологии или психиатрии. В то же время для Павла это не бессмысленные понятия — он заимствует их из философии и народных верований своего времени[111]. Мы тоже пользуемся понятиями вроде "макроэкономика" или "права человека", которые не имеют конкретного материального выражения и человеку I в. показались бы еще более странными, чем нам кажутся "престолы и господства". Но это же не значит, что от них надо отказываться.
От НЗ в случае радикальной демифологизации остается лишь достаточно расплывчатое представление о том, «что Иисус значит лично для меня». Что в таком случае остается от ВЗ, трудно даже сказать. Как отметил современный богослов Т. Стилианопулос, стремление добыть из Писания смысл, удовлетворяющий современного человека — «рискованное предприятие, которое, судя по огромному напряжению между христианством и современной культурой, обречено на неудачу. Ибо, говоря откровенно, если на исходе второго тысячелетия в христианстве сохраняется какая-то жизненность и какие-то обетования... их следует искать среди тех христиан и тех интерпретаторов Библии, что хранят живую веру в библейском и традиционном смысле этого слова»[112].
Сторонники теории Бультмана есть и среди наших современников[113], но в целом можно сказать, что, хотя его идеи способствовали рождению «новой герменевтики», но «в чистом виде» их придерживаются очень немногие.
2.4.1.3. Новая герменевтика
Этим названием принято обозначать направление в общей герменевтике, возникшее во второй половине XX в. и связанное с именами Г. Гадамера и П. Рикера, а в библеистике — Э. Фукса и Г. Эбелинга