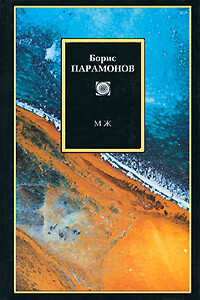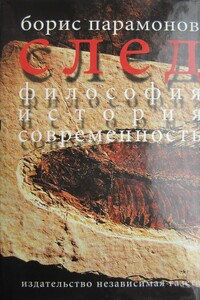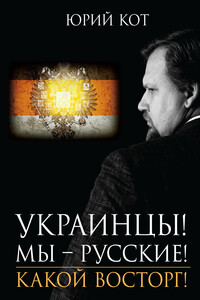Борис Парамонов на радио "Свобода" 2007 | страница 38
Но тут нужно привести что-нибудь из Шкловского, авторизованного Лидией Гинзбург. Ну такое, например:
«Вы написали мне упадочное письмо. Какую-то повесть о бедной чиновнице», — сердито сказал мне Шкловский по поводу письма, в котором говорилось о вторых и третьих профессиях человека, лишившегося первой.
В последний же раз при встрече В.Б. сердился на то, что я не ответила ему на письмо.
— Безобразие! Вы отнеслись к этому как к литературе и собирались писать мне историческое письмо; надо было ответить открыткой.
В.Б. угадал — я не написала ему «историческое письмо», но обдумывала его несколько дней.
Или такое:
— Товарищи, товарищи, — сказал Шкловский сердито, — вы не правы. Нельзя писать для того, чтобы зарабатывать. Надо зарабатывать для того, чтобы писать.
В этих маргиналиях о Шкловском отчетливо звучит тема жизни самой Лидии Гинзбург. Не успев по-настоящему начать работать в науке, она была от нее отставлена — вместе с самой наукой — формальным литературоведением. Пришлось поневоле говорить о вторых и третьих профессиях. Гинзбург написала, например, авантюрный роман для детей «Контора Пинкертона». Ей пришлось также преподавать литературу — да что литературу — просто грамотность — в школах для взрослых. Отнюдь не брезгуя такой работой — тут сказывалось, по ее собственным словам, традиционное народничество русской интеллигенции, — Гинзбург в одном месте записывает, как у нее на столе рядом с учебниками «Орфография в школе взрослых» и «Знаки препинания» лежат сочинения Константина Леонтьева и как бы хотелось написать исследование о его стиле в знакомой формалистской манере:
Политический стиль Леонтьева заслуживает всяческого изучения. Сочетание патетики с угловатостью и с доходящей до дикости необычайностью слов и целых выражений.
Такого исследования о Леонтьеве, да и многого иного, написать ей не удалось. В науку ее, конечно, вернули, во второй половине тридцатых годов, когда происходил некий культурный ренессанс по-советски, за что-то она зацепилась. Войну и блокаду провела в Ленинграде, позднее, в семидесятых, напечатала очень значительную книгу «Записки блокадного человека», давшую ей уже настоящее литературное имя. Гинзбург приводит слова одного начальника, когда решался вопрос об издании: «Что-то у нее слишком много говорят о еде».
Но вот после войны и блокады стало совсем плохо — со времени ждановских погромов. Пришлось уехать в Петрозаводск, что-то там преподавать; хоть в вузе, а не на курсах ликбеза. Что-то даже печатала; выпустила книгу о «Былом и думах» Герцена, которую сама вспоминает со стыдом — и одновременно мастерски анализирует в своих записях для демонстрации механизмов интеллектуального подавления, приводившихся в действие самими авторами, пресловутого феномена самоцензуры.