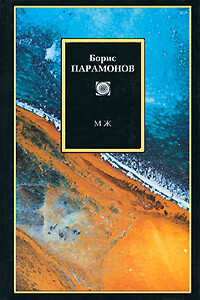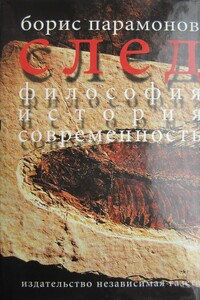Борис Парамонов на радио "Свобода" 2007 | страница 20
Книга Эйхенбаума, квинтэссенция его анализа, была чуть ли не буквально воспроизведена в старой советской Литературной Энциклопедии 1929 года — с добавлением каких-то дежурных вульгарно-социологических слов. Эта статья и попала в лапы референтов Жданова, готовивших его доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград», вторично отправивший Ахматову в поэтическое небытие; первое случилось в середине двадцатых годов, когда ее запретили печатать, но — гримаса эпохи — дали ей, еще молодой женщине, пенсию, как некую компенсацию. «На папиросы хватало»,— говорила Ахматова. Жданов хамски нажал, замазал грязью тонкие дефиниции текста Эйхенбаума — и вышла у него Ахматова «монашенка и блудница».
Эта история всем известная, но у нас есть теперь свидетельства об Ахматовой, когда она еще была в силе и славе, в ранние двадцатые. Корней Иванович Чуковский писал в своем дневнике 1922 года:
Мне стало страшно жаль эту трудно-живущую женщину. Она как-то вся сосредоточилась на себе, на своей славе — и еле живет другим… Бедная Анна Андреевна! Если бы она только знала, какие рецензии ждут ее впереди!
Прозрение поразительное, причем сделанное как-то походя, без эмфазы. Видимо, было что-то в облике даже молодой Ахматовой, что вызывало в связи с ней представление о трагедии. Об этом же — в стихах Мандельштама:
Так, негодующая Федра,
Стояла некогда Рашель.
Образ Ахматовой в старости, уже после всех ее катастроф, когда она обрела какой-то даже официальный статус, поражал людей ее видевших: царственный облик, Екатерина Великая. Учитывая мизерную житейскую обстановку — королева в изгнании. А что такое царственность? Это уверенная в себе сила. Но сила в Ахматовой была всегда. Вот что писал еще в 1915 году Владимир Недоброво о ее книге «Белая стая»:
Очень сильная книга властных стихов <…> Желание напечатлеть себя на любимом, несколько насильническое. <…> Самое голосоведение Ахматовой, твердое и уж скорее самоуверенное <…> свидетельствует не о плаксивости <…> но открывает лирическую душу скорее жесткую, чем слишком мягкую, скорее жестокую, чем слезливую, и уж явно господствующую, а не угнетенную…
Не понимающий <…> не подозревает, что если бы эти жалкие, исцарапанные юродивые вдруг забыли бы свою нелепую страсть и вернулись в мир, то железными стопами пошли бы они по телам его, живого, мирского человека; тогда бы он узнал жестокую силу <…> по пустякам слезившихся капризниц и капризников.
И не менее проникновенные слова Мандельштама (в начале двадцатых):