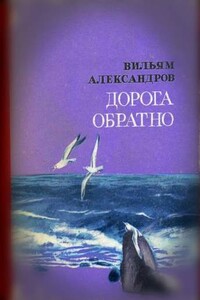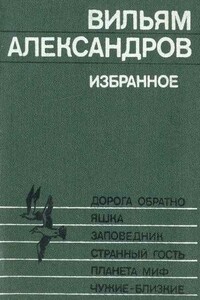Чужие и близкие | страница 52
— Двести грамм урюка — это сахар, глюкоза, витамины. Вьесь день кушаю понемножко… Ясно? Тепьерь… Один стакан молока — три рубля. Остается сколько? Девьять? На пять рублей немножко масла, так? На четыре рубля сто грамм сахар…
Мы слушаем, разинув рты от удивления, у нас буквально слюнки текут: масло, сахар, молоко… Нам и во сне такое не снилось. И все это за какие-то триста грамм хлеба! Сегодня же продаем свои чертовы триста грамм и покупаем витамины и глюкозу, и еще там бог знает что. Но потом мы вспоминаем, что сегодня продавать уже нечего, так как мы успели съесть свой хлебный паек. Придется отложить до завтра. А завтра Синьор вносит поправку — он пришел к выводу, что лучше продавать через день полную пайку — меньше хлопот и больше толку. И мы решаем отложить переход на новую систему до завтра. Так мы с Мишей съедаем каждый день свои шестьсот граммов и даем себе слово, что со следующего дня начнем жить по-новому. И каждый раз с упоением слушаем рассказы Синьора — в них мелькают такие слова, как мед, сметана, консервы — и это очень приятно, это звучит как музыка… Но свой хлеб аккуратно съедаем. Еще до выхода из ворот.
— А ты почему не ешь хлеб, — спрашивает Миша Махмуда. Тот отрицательно мотает головой и продолжает крутить гайки на клеммах мотора. Он почти полностью уносит весь свой хлеб в кишлак. Получит порцию, соберет бережно все крошки в ладонь, кинет в рот — и все. Иногда еще отломит корочку. А остальное несет домой.
И целый день наравне со всеми работает — таскает моторы, поднимает их, устанавливает.
— Почему ты хлеб не ешь? — настаивает Миша.
Махмуд молчит, только угрюмо сопит, уткнувшись взглядом в клеммы. Он уже все сделал, все подключил честь по чести, плоскогубцы застыли в его руке, делать ими больше нечего, но он все держит их возле проводов: не хочется ему, видимо, отрываться от мотора, не хочется поворачивать к нам свое лицо с заплывшим глазом и отвечать на вопрос.
Синьор толкает Мишу в бок локтем — заткнись, мол, — видишь, и так человеку плохо. Но уже поздно. Махмуд медленно поднимается, отряхивает колени и говорит хрипло, набычивши свою круглую стриженую голову:
— Мама… Стареньки совсем мама. Работает не сможет.
— А отец?
— Отес сад большой. Урюк многа. Виноград. Персик многа. Я летом сам убирал. Сам знаю.
— Он что, не живет с вами?
— Не знаю, — Махмуд жмет плечом, и как-то странно кривит рот — в сторону синяка он улыбнуться не может. — Сам не знай. Он молоденький девушка дом звал.