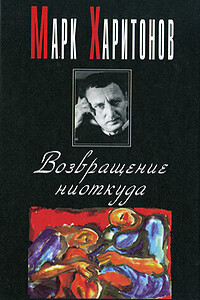Провинциальная философия | страница 8
С Сиверсом Антон Лизавин познакомился прошлой осенью в Москве при обстоятельствах забавных. Он только что получил наконец долгожданный кандидатский диплом и по сему поводу выпил у своего московского коллеги и официального оппонента Никольского. Этот спокойный умник с мучнистым лицом, которое перестало стареть после сорока лет, сугубо заботился о своем здоровье, был, подобно Милашевичу, вегетарианцем, но при этом горазд выпить — сочетание своеобразное, однако обоснованное не менее своеобразной теорией о том, что алкоголь совместно с травками, грибочками, огурчиками и прочим для вегетарианского здоровья не только не вреден, но даже полезен, чего не скажешь о том же алкоголе, заедаемом колбасой или тем более копченым окороком. Такая здоровая выпивка разнообразит мироощущение человека, достигшего определенной стадии совершенства, дарит новыми чувствами и переживаниями, яркими, но безопасными в силу своей временности. Никольский вообще основывал свою жизнь на множестве сподручных теорий, в себе самом видел как бы инструмент для познания закономерностей, в литературе же — прежде всего материал, красивую, но сырую породу, в недрах которой скрыты крупицы золота, — писатели в грубой своей простоте по-настоящему не способны извлечь все эти структуры, соответствия, мифы. Распознав склонность Лизавина к сочинительству, он иногда иронически прохаживался на сей счет — с сожалением к человеку, способному даже в мыслях променять высокое интеллектуальное служение на темную заготовку сырья. Теоретический склад натуры был связан у Никольского с также весьма благодатной для здоровья способностью ничем не проникаться чрезмерно: он мог за обедом читать в журнале просветительскую статью о глистах, и это не портило ему аппетита.
Наверно, Антону действительно не хватало такой отстраненности — водка под травяную закуску подействовала на него коварно. По-настоящему он оценил свое состояние, когда за полночь очутился на пустынных московских улицах с портфелем в руке и билетом на трехчасовой ночной поезд. Он вышел в сквер перед домом Никольского, как в свой нечайский садик, и сдвиг хмельного воображения, усугубленный сентябрьской свежестью, еще долго держал его в убеждении, что он движется по Нечайску. Но с этим Нечайском что-то произошло. Он разбух, поднялся вокруг, как на опаре, затвердел, вытеснив зелень. Окаменели деревянные мостки. Там, где только что, казалось, тянулись теплые, живые заборы, сады и палисадники, все залубенело, сама земля покрылась коростой или коркой. Внутри эта земля пронизана была жесткими сосудами — Лизавин видел их сквозь толщу, как на цветной схеме, горячие, холодные, разно го цветные, толстые каналы для отработанных веществ, светящиеся жилы электрических нервов в ореоле искр; из-под земли они поднимались в дома, сраставшиеся в вышине с электрической призрачной твердью. Редкие светящиеся окна были пробиты в ней высоко над головой. Это был другой возраст земли и другой возраст неба, прежний Нечайск с его незатверделыми хрящиками остался далеко в прошлом, и сам Антон казался себе перенесенным в какое-то непомерное, захватывающее дух будущее.