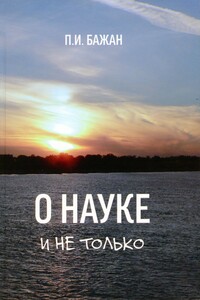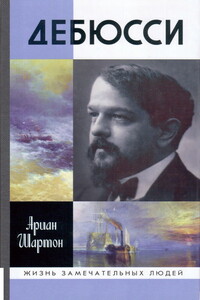Эхо прошедшего | страница 44
Он преклонялся перед Джеком Лондоном, его роднили с ним страсть к приключениям, мужество и твердость его героев, свободный дух, романтическая широта его души. Казалось, он сам был одним из героев Джека Лондона, и, когда он рассказывал нам содержание «Белого клыка», мы ничуточки не сомневались, что все это произошло с ним, — так взволнованно звучал его глуховатый голос, таким мальчишеским восторгом сверкали его глаза. Потом, конечно, мы сами прочитали это бессмертное произведение — мало сказать прочитали! — вытвердили наизусть, но всегда образ человека, спасшего Белого клыка, сливался в моем воображении с образом папы.
…Белые собаки, запряженные в сани, бегут вереницей по заснеженному льду реки. Их пушистые хвосты подняты вверх, дыхание белым паром стоит в морозном воздухе, а белый человек бежит рядом с ними, размахивая длинным кнутом. Так было нарисовано на обложке книжки Джека Лондона «Белый клык». Но я видела их напряженные тела, слышала скрип полозьев, задыхающийся лай собак и хриплые окрики человека. Все это оживало и двигалось под звуки папиного голоса, и я никогда не могла отделаться от впечатления, что папа рассказывает еще гораздо лучше, чем это было написано в книге.
Так же захватывающе интересно рассказывал папа о несчастном Эдмоне Дантесе, заключенном в мрачном замке Иф, о его дерзком бегстве, о безумном аббате Фариа и о жестокой мести неумолимого графа Монте-Кристо. В книге уже было не то! Исчезало очарование благородного и несчастного героя, бледнел священный трепет молодости перед высокими порывами мятежной души. Все это мы чувствовали в рассказе папы, а в книге оставалось нагромождение громких фраз, высокопарных слов и сомнительное благородство выдуманного героя. Уж очень кровожаден был граф Монте-Кристо!
Д’Артаньян из «Трех мушкетеров» был для нас тоже нашим папой, — это его красивое лицо в широкополой шляпе с перьями я вижу, его небрежные, но полные непостижимой грации движения, его гордый, полный мужества и отваги взгляд. Папа очень увлекался Дюма и, хотя и называл его в шутку «негодяем», всегда в минуты душевной усталости или тоски брал какую-нибудь его книжку и перечитывал. Он говорил, что это чтение освежает голову получше всякого душа, и всем рекомендовал его как средство от хандры.
Была длинная и холодная зима — последняя, которую мы провели в нашем огромном и холодном доме. Не было дров, чтобы отопить все высокие комнаты. В столовой, рядом с красивой изразцовой печью, была установлена маленькая железная буржуйка с черной некрасивой трубой. На буржуйке всегда что-то варилось. Чаще всего это был овсяный кисель — студенистая, светло-коричневая масса, похожая на клейстер для обоев. Она распространяла унылый тошнотворный запах, ее наливали тягучей и медленной струей в глубокие тарелки и ставили перед нашими вытянутыми лицами. С убийственным упорством это блюдо появлялось на столе каждый день. Проклятый кисель имел тенденцию жестоко пригорать, и его приготовление требовало совершенно нерентабельных усилий — изволь до одури мешать его длинной деревянной ложкой, благо было бы хоть потом вкусно, а то ведь, прямо сказать, никудышное было кушанье! «Дети, овсяный кисель на столе, читайте молитву!» — эти слова, вычитанные мною из хрестоматии, прозвучали обидной насмешкой, так как чтение молитвы перед поеданием киселя было более чем неуместным, по моему мнению.