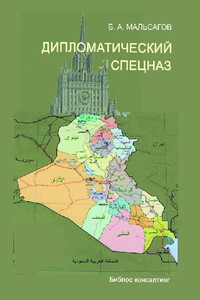Новые мученики Российские | страница 39
Далее Гурович очертил деятельность петроградского Общества православных приходов, положение местного духовенства, настроение верующих масс… Особенно подробно остановился защитник на главарях «живой церкви», в которых он усматривал истинных виновников и творцов настоящего дела. Он предсказывал, что советская власть рано или поздно разочаруется в этих — ныне пользующихся усиленным фавором — людях. Создаваемая ими «секта» не будет иметь успеха — это можно сказать наверняка.
Слабость ее не только в отсутствии каких-либо корней в верующем населении и не в неприемлемости тех или иных ее тезисов. В истории бывали примеры, что и безумные в сущности идеи и секты имели успех, иногда даже продолжительный. Но для этого необходимо одно условие. «Секта всегда представляет в начале своего возникновения оппозицию, меньшинство, и притом гонимое большинством. Героическое сопротивление большинству, власти, насилию, часто увлекает массы на сторону сектантов, «бунтарей». В настоящем случае далеко не так.
За «живую церковь» стоит, очевидно для всех, гражданская, советская власть со всеми имеющимися в ее распоряжении скорпионами[1] и принудительными аппаратами. Принуждение не создает и не уничтожает убеждений. «Церковная революция», происшедшая с разрешения и при благоволении атеистического «начальства», искренних христиан, даже из фрондирующих, привлечь не может. Народ может еще поверить богатому и властному Савлу, после того как он, превратившись в Павла, по своей охоте променяет свое богатство и положение на рубище нищего, на тюрьму и муки гонения. Обратные превращения не только не создают популярности, но заклеймляются соответствующим образом. Люди, ушедшие из стана погибающих в лагерь ликующих, да еще готовящие узы и смерть своим недавним братьям, — кто пойдет за ними из истинно верующих?
Нет, не сбудутся ожидания, возлагаемые советской властью на нового «союзника».
Обращаясь к самой постановке обвинения, защитник находил, что таковая не заслуживает серьезной критики. Формулировка обвинения была бы прямо анекдотичной, если бы за ней не вырисовывались трагические перспективы. Митрополиту вменяют в вину факт ведения им переговоров с советской властью, на предмет «отмены или смягчения декретов об изъятии церковных ценностей». Но если это — преступление, то подумали ли обвинители, какую они роль должны отнести при этом Петроградскому совету, по почину которого эти переговоры начались, по желанию которого продолжались и к удовольствию коего закончились.