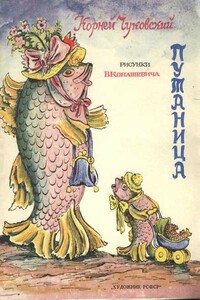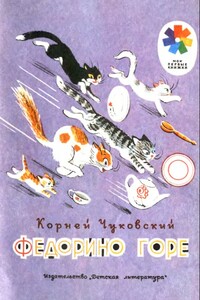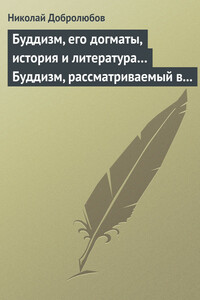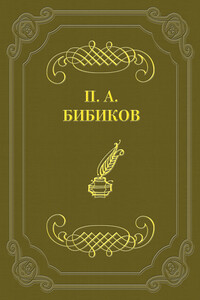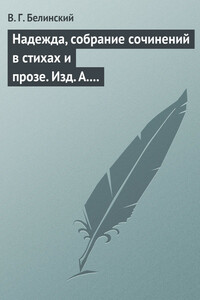Критические рассказы | страница 18
Именно гуртом, именно все, а не один, все гуртом почитались преступниками, все гуртом чаяли спасения только в подлости. Некрасов так и писал в этом стихотворном наброске:
Некрасов говорит мы, a не я, потому что это было наше бесправье, наш стыд, а не его одного. Он говорит о поголовном стыде, потому что к этому стыду и бесправью приобщились решительно все.
Конечно, повторяю, многие искренне радовались спасению царя, ибо террористические акты были тогда еще внове, и, хотя царь уже терял популярность, но самая мысль о его насильственной смерти большинству казалась безобразной. И тем не менее формы, в которые вылилась общая радость, были постыдно лицемерны и фальшивы, так как их создал испуг, и, когда мы читаем, например, в тогдашних «С.-Петербургских Ведомостях» несколько дней подряд печатаемые на первой странице крупнейшими литерами коллективные заявления русских писателей, что они, как и все верноподданные, просят позволить им выразить государю императору свою беспредельную радость, когда в числе этих радующихся мы находим редакцию обличительной «Искры», редакцию писаревского «Русского Слова», мы понимаем, что эта беспредельная радость — паническая, что здесь тот же самый испуг, который через несколько дней погнал Некрасова на обеденное чествование Вешателя.
Многие другие писатели только потому и уберегли репутацию, что не были, подобно Некрасову, членами Английского клуба и не имели возможности лицом к лицу встретиться с диктатором Польши, — кто знает, какие оды сказали бы они ему тогда? Ведь, не один Елисеев, а все они были тогда «как во сне», т. е. вполне безответственны, почти невменяемы, все они, по выражению Некрасова, «не чаяли спасения ни в чем, кроме подлости».
Не забудем также, что какому-нибудь Линяеву или Минаеву почти нечего было терять. Это были однодневки, без прошлого, без будущего, порхающие из журнала в журнал, сегодня здесь, завтра там, распивочно и навынос торгующие либеральной дешевкой, а у Некрасова на карте было все, у Некрасова был «Современник», который он создал с такой почти нечеловеческой энергией, с которым он сросся, которому уже двадцать лет из месяца в месяц отдавал столько душевных сил. Еще до Муравьева, всего лишь за несколько дней до его диктатуры, он высказывал в одном частном письме опасение, что его «Современник» непрочен —