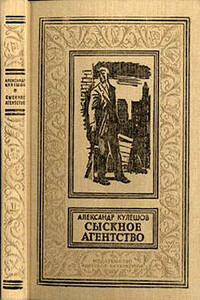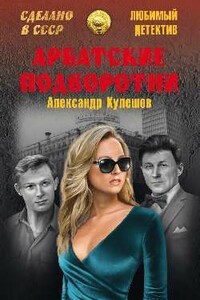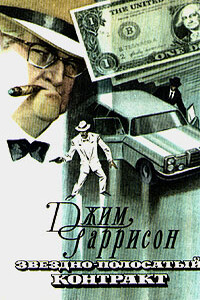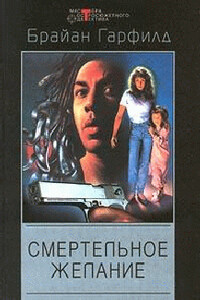Тупик | страница 49
Наконец мы въезжаем в темный-темный лес. Где он? В скольких километрах от города? Как мы туда добрались? Убей меня бог, если я могу ответить на эти вопросы — всю дорогу Гудрун, как лоцман, указывала мне маршрут.
Остановились. Возле озера. Наверное, того же самого, на берегу которого наш спортивный лагерь — у нас в окрестностях только одно озеро, но оно большое, бог знает, на каком мы берегу…
Выходим. Тишина прямо ощутимая, словно в сурдокамере. Так и кажется, протянешь руку — уткнешься в тишину. Но потом начинаешь эту тишину слышать: сухие ветки трещат, лягушки квакают, вода булькает, жуки гудят, птицы кричат, какие-то шорохи, свисты, стуки. Словом, тишина целиком наполнена шумом. Но это шум, который для нас, городских жителей, не слышен. Мы привыкли к грохоту воздушной железной дороги, треску мотоциклов, визгу тормозов, гудению беспрерывного автомобильного потока, гвалту толпы. Если всего этого нет, значит, кругом тишина.
То же относится к запахам. Только наоборот. Бензиновую вонь, запах асфальта, пыли, камней, толпы мы не ощущаем, привыкли. А вот запах озерной воды, хвойного леса, цветов прямо пьянит.
Ну ладно. Выволакиваем судью, бросаем его на землю.
Некоторое время смотрим на него. Я замечаю, что он в смокинге, значит, возвращался из гостей. Взошла луна, и светло как днем, и до чего же нелепо выглядят узконосые лакированные ботинки, блестящие черные лампасы на черных брюках, белая крахмальная манишка со съехавшей набок черной бабочкой в этом лунном благоухающем лесу.
Парни подходят к лежащему и принимаются за работу. Бьют ногами, выбирая места, где побольнее. Делают мне приглашающие жесты рукой. Из-под капюшона доносятся глухие крики. Потом прекращаются.
Гудрун поднимает руку, ребята останавливаются, тяжело дыша.
И вдруг мною овладевает странное чувство, похожее на жалость к этому человеку, к его нелепым черным ботинкам, скрюченному в безнадежной попытке защититься телу. И эти полтора месяца тюрьмы кажутся мне таким пустяком, в конце концов, он делал свое дело. Должен же кто-то его делать…
Гудрун наклоняется к неподвижному телу, прислушивается, торопливо снимает капюшон — она, наверное, боится, не отдал ли судья богу душу. Я стою рядом — эдакий величественный монумент, словно отлитый из бронзы, в четком, ясном, голубом свете луны. (Таким, во всяком случае, кажусь себе я сам.)
Вздрагиваю. Мне кажется, что сейчас я увижу бледное лицо мертвеца. Но то, что я вижу, оказывается еще страшней — это ясный, полный ненависти взгляд широко раскрытых глаз судьи, устремленный на меня.