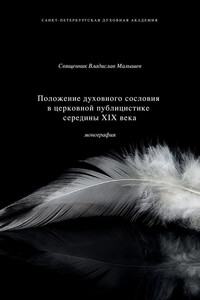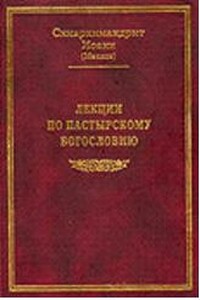Религия в сознании | страница 4
В-пятых, все учёные, занимающиеся когнитивным религиоведением, соглашаются (и в этом нет ничего удивительного), что когнитивная система человека — подходящее начало для объяснения религии, даже несмотря на горячие споры о том, действительно ли она является единственным важным каузальным фактором. Религия указывает на определённые типы человеческого поведения и представлений, и когнитивная система человека — это необходимый (даже если не достаточный) элемент в любом объяснении религии. Как и в случае со всеми остальными культурными феноменами, нет религии без человеческого познания, а потому довольно странно, что созданием теорий, подобающим образом учитывающих его роль, столь длительное время пренебрегали.
Религиозные традиции обычно определяются верованиями, которых, предположительно, придерживаются так называемые «верующие». Даже если акцент на концептуальной стороне религии преувеличен и поведение играет более важную роль, чем принято думать, не вызывает сомнений, что определённые разновидности представлений характеризуют религию. С тех пор как Тайлор предложил свой знаменитый минимум определения религии как «веры в существование сверхъестественных существ», большинство определений сосредотачивалось на том факте, что религии содержат указания на особых существ, которые не принадлежат естественному, эмпирического миру. В соответствии с тем акцентом, который когнитивное религиоведение делает на основополагающих механизмах, оно стремится объяснить, каким образом религиозные представления отличаются от прочих представлений и как это отличие может сказаться на их запоминании и передаче.
В ряде программных статей 1980-х и 1990-х годов французский антрополог Ден Спербер выстроил подход, сосредотачивающий внимание на различных способах распространения представлений. Эта эпидемиология репрезентаций [epidemiology of representations] имеет трёхчастную структуру: во-первых, мы должны провести различие между публичными [public] и ментальными репрезентациями [mental representations] в процессе коммуникации. Если ментальные репрезентации — состояния сознания, разделяемые участниками коммуникационного процесса, то публичные репрезентации являются доступной извне частью коммуникации (звуками, изображениями, чернилами на бумаге). Спербер утверждает, что между публичными и ментальными репрезентациями нет причинной связи, а потому из первых нельзя вывести смысл сообщения. Между тем, смысл конструируется в когнитивном процессе, в котором получатель извлекает максимальную величину релевантных значений из минимальной входной информации. Во-вторых, этот конструирующий процесс происходит посредством активации ряда ментальных механизмов, производящих при запуске определённые типы умозаключений. Таким образом успешная коммуникация использует публичные репрезентации, с их способностью инициировать возникновение умозаключений в когнитивной системе получателя, приводящих, по всей видимости, к ментальному состоянию, более или менее сходному с состоянием отправителя. В-третьих, поскольку роль публичных репрезентаций заключается в активации ментальных процессов, целесообразно изучать культурный успех [