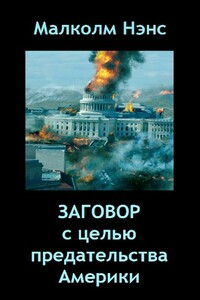Литературная Газета, 6417 (№ 22/2013) | страница 26
Поэт Твардовский, извините,
Не забывайте и задворки,
Хоть мимолётно посмотрите,
Где умирает Вася Тёркин,
Который воевал, учился,
Заводы строил, сеял рожь.
В тюрьме, бедняга, истомился,
Погиб в которой ни за грош…
Прошу мне верить, я Вам верю.
Прощайте! Больше нету слов.
Я тёркиных нутром измерил,
Я Тёркин, хоть пишусь – Попов.
В Фёдоре Кузькине Можаев почувствовал вот это тёркинское начало. И дальше произошла вещь совершенно замечательная, когда очень чуткий к русской прозе Ю.П. Любимов тут же выбрал эту вещь для постановки и поставил её.
Виталий СТЕПАНОВ, журналист:
– Спектакль вышел, но не шёл, как известно. Но я был на двух генеральных (и скандальных) репетициях «Живого». Первая была перед просмотром самой Фурцевой, тогдашнего министра культуры. Спектакль вышел уже после смерти Фурцевой, когда был новый министр – Демичев. Этот спектакль особенно мне памятен. Потом было обсуждение. На спектакль пригласили элиту из председательского подмосковного корпуса. Было несколько Героев Социалистического Труда, были деятели из Министерства сельского хозяйства. Спектакль был блистательный. Все дружно аплодировали. Но когда началось обсуждение, атмосфера уже была совсем другая. «Правда» очень резко критиковала повесть Бориса Андреевича. И, несмотря на это, Борис Андреевич откликнулся на мою просьбу съездить от «Правды» в командировку и написать для нас очерк. Уговаривал я его очень просто: ради интересов деревни надо нас простить. И на протяжении всего нашего знакомства он никак не вспоминал тех наших выпадов по поводу повести «Живой».
Борис МОЖАЕВ
– Никого не пустили в зал – даже композитора, даже художника. Одни они, как говорили артисты. 36 человек во главе с министром культуры. Двери замкнулись, я оглянулся и – о чудо! – увидел Андрея Вознесенского. Как он попал, откуда появился – для меня это было загадкой. В этом пустом напряжённом зале артисты стали играть. Играли очень хорошо. Мы с Любимовым у пульта. Передо мной за два–три ряда сидели два человека. Один маленький, щупленький, другой высокий, с куполообразным черепом. Смеялись. А впереди сидела сама Екатерина Алексеевна (Фурцева. – «ЛГ» ). Высокий гулким голосом: «Гу-гу-гу». А маленький так: «Пш-ш-ш». И вдруг гневный голос Екатерины Алексеевны: «Это кому там смешно, хотела бы я знать!»
Лев ДЕЛЮСИН,
историк-китаист:
– Когда мы жили на Уки (хутор в Латвии: жена Можаева была латышкой. – «ЛГ» ), к нему часто ходили за советами местные латыши, крестьяне окрестных сёл, которые просили совета, помощи, куда написать письмо, чтобы разрешить свою беду. Борис Андреевич всегда охотно отзывался и помогал, сочинял иногда письма, звонил куда надо, ходил. У него был активный, деятельный характер. Это был не кабинетный писатель, который отмахивается от всего, что мешает ему работать. Хотя, казалось бы, это отрывало его от дела: он, я помню, писал сценарий, ему надо было в срок уложиться. Мне хочется вспомнить о его беседах с Фёдором Абрамовым. Абрамов – прекрасный писатель, знаток русской деревенской жизни. И когда они сходились вместе, мы были слушатели, а они были спорщики. Рассказывали друг другу, как надо оседлать коня, завязать уздечку. Но когда они переходили к общим проблемам сельского хозяйства и к тому, что делается в советском селе, тут Можаев поражал собеседников знанием литературы. Вильямса, Докучаева, Прянишникова он цитировал наизусть…