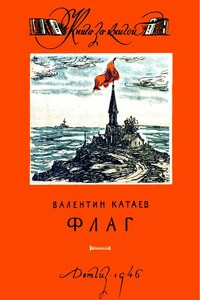Кладбище в Скулянах | страница 46
А между тем ночь была вокруг по-прежнему величава и торжественна, и моя душа, сжавшись на секунду от ужаса смерти, снова горела любовью, предчувствием какого-то неведомого счастья, долгой жизни, восторгом перед красотою мира.
Юности так свойственны возвышенные заблуждения!
Мне тогда и в голову не приходило, что в любой миг могут вдруг встать спрятанные в пустынных снегах целые армии, миллионы солдат, сотни батарей, огнеметов, аппаратов для пуска удушливых газов — и все это с воем и грохотом обрушится друг на друга по велению единой сигнальной ракеты, красной звездочкой взлетевшей над верхушками мирного белорусского леса, и уничтожит меня навсегда…
Мне было в ту пору едва лишь восемнадцать лет, судьба меня помиловала, смерть обошла стороной, как деда и прадеда, но через четверть века я испытал в последний раз ее ужасное приближение.
Был горячий, безветренный июль на орловской земле. Кругом неубранные поля, истерзанные только что закончившимся здесь сражением. Кое-где поле было выжжено, и низко над землей тянулся удушливый дымок. Несколько мертвых немецких танков виднелось то там, то здесь. Из люка одной из этих обгоревших машин торчала нога в грубом солдатском башмаке. То и дело под ногами попадались кучи стреляных гильз мелкокалиберных пушек. Солнце только что закатилось за дымящийся горизонт, но безоблачное небо продолжало светиться розовым, ровным тоном июльской зари. Я шел по компасу, отыскивая танковый корпус, куда был назначен корреспондентом. Гимнастерка на спине пропотела, и брезентовые летние сапоги покрылись толстым слоем пыли. Луна посередине неба была едва обозначена белым кружком, обещая яркую лунную ночь. Но пока еще был день или, вернее, тот промежуток между днем и ночью, который в средней полосе России в июле так долго тянется в розовом молчании как бы слегка запыленной природы.
Среди тряпья, железного лома, обрывков каких-то бумажек, трупов, раздавленных танками, в некоторых местах мягко голубели цветы цикория и сине-красные васильки, обычная принадлежность русского поля. Орел был еще в руках немцев, но в ходе войны уже произошел роковой для немцев перелом, и началось их отступление. Все вокруг казалось безопасным. Но вдруг я услышал хорошо знакомый звук немецкого бомбардировщика. Он летел на страшной высоте над самой головой, неизвестно куда направляясь и, по-видимому, не представляя для меня — маленькой одинокой букашки, затерянной среди исковерканных орловских просторов, — никакой опасности. И вдруг в тот самый миг, как я подумал о своей безопасности, я услышал на той неимоверной, страшной высоте зловещий звук, который, вероятно, никто из фронтовиков не забудет до самой своей смерти: звук оторвавшейся от самолета тонновой авиабомбы. Я прыгнул в ближайшую воронку, как будто бы это могло спасти меня от гибели. Но среди военных существует убеждение, что в одну воронку снаряды попадают дважды в виде редчайшего исключения. Солдаты прыгают под артиллерийским огнем в воронки, сидят там, втянув голову в плечи, надеясь, что снаряд в воронку не попадет… надеясь, но не вполне этому веря, потому что бывали случаи, что и попадал. Я лежал, свернувшись калачиком, на дне воронки, как в кратере вулкана с зубчатыми краями, для чего-то прикрыв голову походным планшетом, в котором носил бритву, мыло, помазок и блокнот с фронтовыми записями. Я понимал, что планшет меня не спасет, но все же крепко прижимал его к фуражке, в то время как мой необычайно обострившийся слух был весь поглощен звуком летящей сверху бомбы.