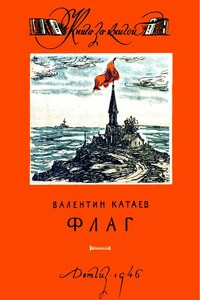Кладбище в Скулянах | страница 133
(… Может быть, как шкворень — добела раскалился и потом дочерна прожег коленную чашечку, оттуда потек зеленый гной на смятые простыни…)
«Да удостоится очищавшаяся душа твоя водворения, там идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание».
Осиротевшее семейство утирало слезы, и средний сын покойного, мальчик Петя, в шинели духовного училища, стоял без фуражки, с покрасневшими добрыми глазами, такими же самыми, какие были у него в тот страшный день, когда много лет спустя рядом со мной, его старшим сыном, он стоял перед гробом своей жены, той самой девочки Жени, которая родилась в семье моего дедушки Бачея.
А тогда в Вятке черная толпа прихожан и нищих, окружившая могилу другого моего деда, отца Василия Катаева, крестилась, кланялась… Звонили похоронные колокола, синели великопостные тучи, над колокольнями носились стаи галок, на занесенной снегом реке с бревенчатой конторкой пристани и вмерзшим в лед паромом виднелись черные квадратики прорубей, откуда шли бабы в оранжевых тулупах, в темных платках, с ведрами на расписанных коромыслах…
Но вернемся к запискам другого моего дедушки, Ивана Елисеевича Бачея. В этих записках он не успел рассказать о свадьбе своей дочери Евгении, вышедшей замуж девятнадцати лет за учителя Петра Васильевича Катаева, приехавшего из Вятки в Одессу со своей матерью, вдовой протоиерея, поступать в императорский Новороссийский университет, недавно открывшийся в этом городе, где жизнь, по слухам, была дешевле, чем в любом другом университетском городе Российской империи.
Петр Катаев с серебряной медалью кончил университет по историческому отделению историко-филологического факультета, стал преподавателем и женился на Евгении Бачей, моей будущей матери.
«В ноябре, — пишет дедушка Бачей, — была объявлена мобилизация. Распоряжение мы получили 1 ноября после обеда. Я пошел обедать в 2 часа, а пообедав и вернувшись в штаб, застал такую сцену: все тревожилось, суетилось… посылалось множество телеграмм во все места».
Дедушка, по-видимому, был так сильно взволнован нахлынувшими воспоминаниями о приближении русско-турецкой войны, что почерк его с трудом можно было разобрать даже с помощью увеличительного стекла, тем более что он почему-то стал писать красными канцелярскими чернилами, и это придало его воспоминаниям зловещий оттенок.