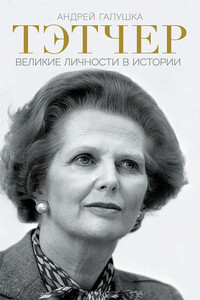Грановский | страница 36
И наконец, кружок Станкевича, и особенно сам его организатор и глава. Идеология этого кружка формировалась в той же традиции, что и взгляды любомудров, Галича, Надеждина, — традиции немецкого классического идеализма, главным образом Канта и Шеллинга, и лишь на завершающей стадии существования кружка и жизни Станкевича — Гегеля и младогегельянства. Философские идеи Станкевича вообще, его философии истории в частности могут рассматриваться как завершающий этап истории русского просветительского идеализма.
Как и с западноевропейской мыслью, Грановский был в разной степени знаком с отмеченными направлениями и представителями русской мысли — с одними меньше, с другими больше. Но если говорить о той традиции, в которой он воспитался, к которой примкнул и которую развил, — о традиции русского просветительского диалектического идеализма, то он усвоил ее.
И поскольку это так, мы имеем все основания сказать, что и самого Грановского следует считать деятелем заключительного этапа истории этой школы. Он начал свою деятельность в области философии истории как ее представитель, он начал свое развитие на ее основе, и он вышел за ее пределы, что знаменовало собой «своеобразное жизнеспособное распадение школы» (53, 5) на этом ответственнейшем участке ее учения — философии истории. Станкевич сыграл большую роль в формировании воззрений Грановского. Если мы попытаемся доказать в дальнейшем, что Грановский стремился синтезировать все прослеженные воздействия в некое теоретическое единство, то традиция в русской культуре совершенно отчетливо в этом синтезе видна: социальный утопизм в той мере, в какой он присутствует в построении Грановского, идет не от утопического социализма, а от традиции русской социальной утопии. В дальнейшем мы подробно остановимся на том, как Грановский отнесся к предшествующей философии истории. Но о его отношении к воззрениям Станкевича хотелось бы сказать сейчас, поскольку воздействие идей Станкевича Грановский испытал лишь в молодые годы, затем оно угасло отчасти под влиянием более мощных воздействий западной мысли, отчасти потому, что в той мере, в какой они вообще сыграли роль, они были усвоены именно в эти молодые годы. В общем виде мы уже говорили об их контактах, теперь нам надлежит сосредоточиться на этой теме уже под специальным углом зрения: какие именно идеи Станкевича оказали влияние на формирование философии истории Грановского?
Нет сомнения, что советы, какие давал Станкевич Грановскому, мысли, какие он сообщал ему в первые же месяцы пребывания Грановского за границей, были учтены и восприняты Грановским. К этим идеям следует прежде всего отнести взгляд Станкевича на мир, на род человеческий как на единое, на историю человечества, как на единый процесс и на науку о ней, как на монистическую теорию. «Я не понимаю натуралиста, — пишет Станкевич Грановскому в Берлин (14 июня 1836 г.) в письме, как бы дававшем общее направление его историческим занятиям, — который считает ноги у козявок, и историка, который, начав с Ромула, в целую жизнь не дойдет до Нумы Помпилия, не понимаю человека, который знает о существовании и спорах мыслителей и бежит их и отдается в волю своего темного поэтического чувства… Нет! Человек может знать, что хочет… и быть в единстве с самим собою, одушевить науку одною светлою идеею — и этого мы в праве ждать и требовать от тебя, милый Грановский…» (83, 446–447). Для достижения этой теоретической цельности в понятиях об исторической науке Станкевич советует Грановскому заняться философией (см. 83, 447). «Грановский! — восклицает он. — Веришь ли — оковы спали с души, когда я увидел, что вне одной всеобъемлющей идеи нет знания; что жизнь есть самонаслаждение любви и что все другое — призрак. Да, это мое твердое убеждение. Теперь есть цель передо мною: я хочу полного единства в мире моего знания, хочу дать себе отчет в каждом явлении, хочу видеть связь его с жизнью целого мира, его необходимость, его роль в развитии одной идеи. Что бы ни вышло, одного этого я буду искать. Пусть другие