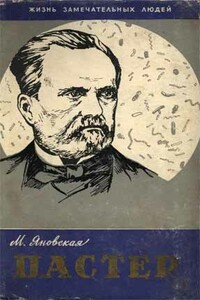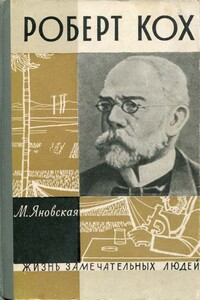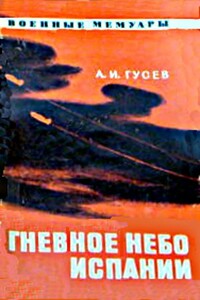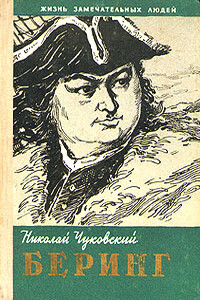Сеченов | страница 88
Не откладывая дела в долгий ящик, Владимир Александрович тотчас по приезде в Петербург отправился к кузену.
— Ну что ж, с богом! — благословил его кузен. — Начинай приобщаться вместо шпаги к перу. Хотя там, куда я намерен рекомендовать тебя, одно от другого не далеко отошло. Я дам тебе записку в «Современник» к Панаеву — редактору журнала. Он, я думаю, все равно направит тебя к Николаю Гавриловичу. Ну, а там ты и сам знаешь, что говорить.
Владимир Александрович знал. Со слов брата знал он и Чернышевского. Имел и свое суждение, так как читал его статьи. И робел перед ним, страшился этой встречи чуть ли не больше, чем разговора с отцом.
Случилось все так, как и предвидел H. H. Обручев. И. И. Панаев мило встретил его, для формы порасспросил немного и действительно направил к Чернышевскому.
Когда он вошел в квартиру Чернышевского, его поразила убогая обстановка, особенно поразила после богатства и роскоши, которые он видел у Панаева. Его провели в кабинет Чернышевского, и он, смущаясь, молча протянул тому записку. Но когда Чернышевский мягко и добродушно улыбнулся ему, когда тепло сказал: «Рад вам помочь», — робость как рукой сняло, и он заговорил горячо и искренне:
— Я не могу служить в армии и думать, что стану когда-нибудь убийцей своих же русских людей, которые стоят за добро, против зла! Я не хочу быть слепым орудием в руках самодержавия… Я был только что у своего отца и говорил ему, что хочу выйти в отставку. Там я привел причиной свою личную обиду на начальство. Но это не так! Это давно уже не так, верьте мне, Николай Гаврилович! Личная обида — ничто по сравнению с обидой народа. Я много думал, много читал за эти несколько месяцев, и я хочу приносить пользу своему народу, а не быть его врагом…
Чернышевский серьезно слушал, поблескивая под выпуклыми стеклами очков своими добрыми голубыми глазами. Обаяние его облика, его тихой, чуть присвистывающей речи, его серьезного взгляда согрело Владимира Александровича, успокоило его напряженные нервы, и ему показалось, что вот, наконец, он нашел свое пристанище, теплое, тихое, более домашнее, чем в своей собственной семье.
Словно читая его мысли, Чернышевский покачал головой и заговорил о том самоотвержении, которого требует служение народу, о трудности жизни литератора, если, конечно, это литератор не типа Каткова, и, между прочим, о том, что следовало бы ему, Обручеву, тотчас же заняться изучением английского языка.
— Это очень полезно для вас. Да и для нас. У нас в обществе, к сожалению, так мало еще знают европейскую науку и литературу, а это столь нужное дело в наше время.